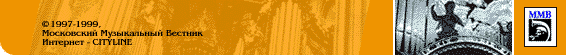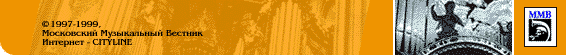|
Трудно искать чёрную кошку
в тёмной комнате, или грустные заметки об оперной режиссуре
…Иоганн Себастьян Бах, как
известно, при всей своей плодовитости и
разносторонних музыкальных пристрастиях, не
оставил ни одного опуса только в одном жанре:
маэстро не написал ни одной оперы. Кантор церкви
Святого Фомы намного опередил время в своих
сочинениях – и, как знать: быть может, он просто
предвидел пути развития постановочного
искусства на много лет вперёд?.. Опера, поначалу
благополучно (но недолго) существовавшая без
режиссёров вообще, первую инъекцию дурного вкуса
получила в Париже восемнадцатого века; возникший
тогда жанр “гранд-опера” подразумевал не только
обязательные протяжённые балетные вставки, но и
необычайную пышность, помпезность и дороговизну
постановки: без всего этого стало “скучно”.
История, как известно, всегда повторяется в виде
фарса: и эпоха в истории советской оперы,
сталинская “гранд-опера”, частенько ещё и с
переписанным в соответствии с “Кратким курсом
истории ВКП(б)” либретто, убеждает в том ещё раз.
Естественно, что о каких-либо современных
тенденциях в постановке опер в России сегодня
вряд ли можно говорить серьёзно: на смену тупому
засилью имперской помпезности и нескольким
превосходно (несмотря ни на что!) работавшим
настоящим мастерам, пришёл полный хаос – а с ним
и новое поколение наших таких милых “деятелей”
от оперного искусства, ещё хранящих все прелести
советской закваски. “Перестроившиеся” и
раскрепощённые, они куда более дружны с
терминами “спрос”, “маркетинг” и “рынок”,
нежели со смутными понятиями “бельканто” или,
того хуже, “полифония”. Безусловно ими восхищаясь, мы,
однако, должны заметить, что стремление
заработать как можно больше денег, как угодно и
где угодно (бесспорно, весьма похвальное само по
себе!) – к искусству всё-таки прямого отношения
не имеет.
Постановки, которые “присяжные” критики сегодня восторженно
именуют “новым словом в искусстве”, как правило,
являют собой либо откровенно любительскую
халтурку, либо курьёзный винегрет из наиболее
известных постановок западных театров прошлых
лет – а то и вовсе бесхитростно даются в
декорациях, прикупленных по случаю на свалках
Запада. Ориентированность более-менее
благополучных столичных театров на выпечку
одноразовых лубочных “шедевров” для продажи на
Западе, самодурство и
деспотизм “художественных
руководителей” различного
ранга, казалось, заставляют с надеждой взглянуть
в российскую “глубинку” - но
безнадёжная нищета провинциальных российских
опер убивает подобную надежду на корню. Всё это и
не позволяет сегодня говорить о хоть
сколько-нибудь заметных течениях в творчестве
оперных режиссёров; и даже отдельные удачные
постановки сами по себе, увы, тенденции никак не
создают.
Это даже не упрёк: подобное положение
вещей есть прямой результат узколобой,
исторически крайне легкомысленной, но оттого не
менее неколебимой культурной политики нынешних
правительства и президента: и то обстоятельство,
что государственные субсидии для театров, бывшие
чисто символическими ещё несколько лет назад,
ныне окончательно обратились в насмешку, ставит
нас перед непреложным фактом: если и суждено
выжить в России оперным театрам (разумеется, о
Кировском-Мариинском или Большом, имеющих особое
финансирование, налоговые льготы и
идеологическую установку на “впереди планеты
всей” - пусть даже и в отдельно
взятой стране - здесь речь не идёт),
то сама сосредоточенность оперных трупп на чисто
физическом выживании не сулит нам, судя по всему,
каких-либо художественных открытий.
Подобная ситуация невольно смещает
ориентиры в оценке постановок нынешних героев:
нормальная критика воспринимается теперь, как
моветон, а газетная сентенция типа: “…в условиях
остаточного финансирования и нынешних
экономических трудностей работа режиссёра Х (или
дирижёра Z) сродни подвигу…”
– стала уже общим местом. Собственно художественные
критерии стыдливо уходят в сторону, уступая
место подвигам.
И вот, широко рекламируемый (и кстати,
благодаря активной поддержке московского мэра
Юрия Лужкова, далеко не нищий) ансамбль “Новая
опера”, как и следует из названия, преподносит
нам хорошо забытые вампучные зрелища (смелыми “режиссёрскими находками”, в лучшем случае, почти дотягиваясь
до новинок времён Пролеткульта); в других театрах
постановкой опер занялись артисты балета
(прекрасные, между прочим, танцовщики!); в
петербургской Мариинке некий
художник-оформитель, всю жизнь работавший в кино,
вдруг подрядился сделать новую постановку
“Бориса” за десять дней – в результате опера
пошла в концертном исполнении… Бывает, что в
дирекции оперы вдруг возникает некий персонаж,
заявляя, что театру позарез необходимо поставить
(или “переставить”) ту или иную оперу, и готовый
осуществить эту задачу. – “А где ж взять
деньги”? – уныло вздыхает оперное начальство. –
“А у меня спонсор есть!” – обрадованно
восклицает пришедший, и тут же приступает к
работе. Ни образование гостя, ни – тем более! –
его постановочные концепции и идеи никого не
волнуют.
Тем не менее, было бы огромной ошибкой
полагать, что каждая новая постановка на Западе
превращается в “праздник искусства” (как это
сплошь и рядом происходит у нас); стойкий
коммерческий душок, разлагающий искусство
независимо от географического положения, в
последнее время всё больше даёт о себе знать и “там”.
И я предлагаю читателю для начала, отказавшись от
необходимости скорых выводов, просто совершить
некий променад, осмотреться и неторопливо
поразмышлять.
…Примеры курьёзов и нелепостей в
постановках русской оперы на Западе уже можно бы
было, пожалуй, издавать отдельной книгой. Чего
стоит только самая, пожалуй, “репертуарная” на
сегодня русская опера – “Евгений Онегин”! Надо
сказать, что “странствуя без цели, доступный
чувству одному”, я далеко не однажды оказывался
в различных странах на постановках “Онегина”.
Насмотрелся всякого: бывало и досадно, и грустно,
да и просто смешно. Досадно, конечно, когда Трике
целует руку Татьяне (девицам, как известно, рук не
целовали); ещё нелепей выглядит, когда живущий у
Харликова француз, уподобившись этакому боссу из
советского фильма об американской мафии,
небрежно треплет юную Ларину по щеке. Но один раз,
в национальной опере одного островного
государства, я был просто сражён наповал: у
некоего режиссёра (на Западе весьма, кстати,
популярного), Татьяна в сцене письма подходила к
зеркалу и, обнажив грудь, стояла в раздумьи…
Критики потом всерьёз дискутировали:
сомневалась ли девушка в том, что достаточно
созрела для замужества, или просто опасалась, что
её прелести придутся Онегину не по вкусу… То, что
все эти пикантные сцены вообще, как говорится,
“из другой оперы”, никому и в голову не пришло.
Полноте, разве не является сия находка
пресловутым “приближением к Пушкину”? (подобные
“приближения” стали архипопулярным фетишем нынче;
порой даже кажется, что гениальный русский поэт
именно по поводу грядущих постановок оперы и
обронил: “Татьяна, милая Татьяна! С тобою вместе
слёзы лью”)…
Один из таких режиссёров - “приближенцев”
к Пушкину, родом из Америки,
однажды учиняет лёгкий припадок, требуя от
дирижёра и солиста огромной, не менее двух минут,
паузы между крохотной интродукцией к арии
Онегина и собственно арией. На истерический
вопль исполнителей и дирижёра: “Ну почему”?! –
признанный мастер сцены, хитро улыбнувшись и
воздев пальчик кверху, ликующе так говорит:
“Пушкина читать надо”! – и цитирует по памяти на
скверном русском языке:
“…Минуты
две они молчали,
Но к ней Онегин подошёл
И молвил: вы ко мне писали,
Не отпирайтесь! Я прочёл…”
Другой же
признанный мастер, также одержимый “близостью к
Пушкину”, пошёл ещё глубже, требуя, чтобы Татьяна
надела… очки. Мотивируя своё требование,
режиссёр обнаружил глубочайшее знание
первоисточника и либретто: ведь при самой первой
встрече с Онегиным Татьяна говорит: “Я читаю
много…”, а в предпоследней картине, на балу,
спрашивает: “Скажите, кто это там, с мужем? Не
разберу…” - сильная близорукость
налицо; с таким режиссёром и к доктору ходить не
надо!
Ярким контрастом здесь вспоминается
работа англичанина Тревора Нанна, быть
свидетелем которой мне довелось во время
постановки “Кати Кабановой” (оперы Яначека по
“Грозе” Островского, никогда, к сожалению, не
шедшей в России). На одной из репетиций русская
исполнительница роли Кати, увидев, как группа
артистов-“селян” выходит из церкви, все, как
один – с молитвенниками в руках (!), сказала
режиссёру, что такого в России быть не могло. В
отличие от многих, куда менее именитых коллег,
Нанн не впал в глубокую обиду, а просто переделал
всю сцену. Затем художник-оформитель спектакля
Мария Бьёрнсон, подсев в буфете за столик к нашей
немногочисленной “русской колонии”, стала
дотошно, до мельчайших деталей выспрашивать об
особенностях тех или иных предметов быта и
церковной утвари, тут же проворно набрасывая
эскизы на салфетке. Ясно, что в спектакле,
предполагающем определённые исторические и
социальные условия (разумеется, если постановщик
сознательно не переносит действие в другую
эпоху), любая мелкая неточность может привести к
большой лжи и неминуемой потере самой атмосферы
спектакля.
Такая, казалось бы, вполне очевидная
истина, на самом деле не составляет тайны лишь
для очень больших мастеров. И когда я осмелился
сказать другому английскому постановщику о том,
насколько курьёзно выглядит исторический
“винегрет” из костюмов на балу у Лариных (там
были представлены все мыслимые сословия и эпохи:
петровские стрельцы, извозчики конца ХIХ века,
украинцы и молдаване, гусары, приказчики,
чиновники, священники, дьяконы и так далее) – тот
обиделся и закричал, что я-де “лишён
воображения”…
Получив столь страшный упрек, я уже
стыдливо молчал, наблюдая, как творец сей
запихивал Ленскому в руку недопитую бутылку
коньяка, вполне искренне полагая, что приведшая к
дуэли ссора двух героев – лишь пьяная
“разборка”, не более. Но на этот раз уже кто-то
другой из русских неучтиво заметил светилу
режиссуры, что уж из горлышка-то Ленский пить
никак не мог… - “А где это
написано?!” – с обидой в голосе вновь закричал
известный мастер… Остаётся только добавить, что
спектакль имел огромный успех и прекрасную
прессу.
Кстати, чуть ниже мы убедимся, что
приглашение на русскую оперу постановщика из
России вовсе не означает высокого
художественного результата. Причин здесь много,
но основная, пожалуй, заключается в том, что
многих современных оперных деятелей, больше
пекущихся о количестве да “оригинальности”
своих постановок, частенько отличает
агрессивно-спесивое и, в сути своей, абсолютно
элементарное невежество. Я, к сожалению,
нисколько не преувеличиваю, и не только о
злополучном “Онегине” здесь речь.
Мой приятель, работающий в одном из
оперных театров Америки, поведал мне совершенно
анекдотичную – но оттого, увы, не менее
правдивую! – историю о том, как некая, знаменитая
и “модная” дама-режиссёр, ставила у них в театре
вагнеровского “Летучего Голландца”. Работа шла
тяжело; одна нелепость нагромождалась на другую,
и чем дальше, тем во всё большее недоумение
приходили все – и артисты, и сотрудники театра. В
ответ на любой вопрос экзальтированная дама
разражалась рыданиями, выкрикивая сквозь слёзы,
что её-де никто не уважает и артисты отчаянно
“саботируют” её идеи… Наконец, в один
прекрасный день – незадолго до премьеры –
выяснилось, что талантливая художница (не
знавшая по-немецки ни слова), работала по
подстрочному переводу оперы… “Лоэнгрин”!
Естественно, когда ошибка открылась, в своей
постановке девушка практически ничего не
изменила: во-первых, до постановки оставались уже
считанные дни, а во-вторых, просто “из
принципа”… Вскоре после этой истории
постановщица с большой помпой – международная
звезда! – прибыла в Петербург, где в Мариинке
(разумеется, очень успешно!) поставила, если я не
ошибаюсь, “Саломею”.
Среди тех удачливых коммерсантов, кто
подвизается на ниве оперной режиссуры (имя им –
легион!), всё меньше принято задумываться о
национальной культуре, драматургии,
исторической и художественной правде; о законах
сцены, о темпоритме произведения; да даже о самой личности
актёра, не говоря уже об актёрской технике –
одним словом о театре вообще, ибо подлинный
профессионал не может пренебречь ничем из
названного… Нынче недостаток таланта
традиционно заменяется эпатажем, а дефицит (или
полное отсутствие) собственных оригинальных
идей уже требует скандала. Это утверждение,
справедливость которого сферой музыкального
театра нисколько не ограничивается, как раз и
является одной из тех немногих современных
тенденций в искусстве, которые быстро, органично
и безболезненно прижились и в России.
К примеру, стремительно “набирает
обороты” стремление к наготе на оперной сцене.
Многим, наверное, памятна богатая на абсолютно
голых женщин и – о, российское целомудрие! – почти
обнажённых мужчин постановка “Огненного
ангела” в Мариинке. Я не стану предъявлять
театру традиционное обвинение в “чернухе”; в
конце концов, сегодня каждый старается привлечь
зрителя самыми рельефными своими
достоинствами… Главной “тенденцией”, или
“течением” современного музыкального (да и не
только!) театра стала тенденция к
безнравственному эпатажу зрителя, законами
театра никак не оправданному.
Если, например, в “Онегине”
отечественные гении от режиссуры ещё стесняются
(пока!) раздеть кого-нибудь из действующих лиц, то
московский камерный театр “Геликон”, например,
уже раздел… старую графиню в “Пиковой даме”.
Правда, режиссёра Дмитрия Бертмана трудно
упрекнуть в отсутствии чувства прекрасного: в
виденной мною постановке графиню пела премилая
особа, которой трудно было дать больше тридцати
лет. Она была энергична и дышала здоровьем – и
потому, видать, была обязана ещё и петь дуэт с
Лизой – за полным отсутствием невесть куда
сгинувшей Полины. Но к формам, пускай и не
музыкальным, придраться было трудно. И не стоит
упрекать творца в эпатаже! – статья “присяжной”
критикессы, опубликованная впоследствии
“Литературкой”, разъяснила: режиссёр просто
старался… – ну конечно! – приблизиться к
Пушкину так близко, елико возможно, или даже ещё
ближе.
Таким образом, надо быть уж совсем
буквоедом каким-то, чтобы корить талантливого
режиссёра тем, что все его находки, хотя и
происходят под аккомпанемент нескольких
музыкальных фрагментов из “Пиковой” – тем не
менее, отношение к бессмертному произведению
Петра Ильича Чайковского имеют весьма
отдалённое… Не досаждайте мастеру нелепыми
ссылками на пушкинский текст, где Герман впервые
встречается с Графиней, когда та достигла уже
весьма преклонных лет – “старуха-графиня”,
“осьмидесятилетняя карга”… А работа мысли?!. А
идеи постановщика?!.
Беда многих современных режиссёров
заключается в том, что они, будучи не в силах
“просто” воплотить конкретное произведение,
“улучшают и переосмысливают” его, стремясь к
некоему мифическому “первоисточнику” – по
рассеянности своей даже и не задумываясь о том,
что именно оперная партитура и является для
них как и тем пресловутым первоисточником, так и
единственным руководством к действию. Не
“Король забавляется” Гюго или “Дама с
камелиями” Дюма, но “Риголето” или “Травиата”
Верди; не проза Пушкина, но “Пиковая дама”
Чайковского… А если кому-то уж так хочется, чтобы
опера “Пиковая дама” начиналась словами:
“Однажды играли в карты у Нарумова” – то чего,
казалось бы, проще: написал себе либретто да и
заказал новую оперу какому-нибудь композитору!
Ведь “Отелло” Россини вполне благополучно
сосуществует с одноимённой оперой Верди – равно,
как и две “Богемы” Пуччини и Леонкавалло;
потомки сами разберутся, какой из опер отдать
предпочтение. Но нет! – лучше мы испакостим
(виноват, “переосмыслим”) известное
классическое произведение, дабы прокатиться, как
школьник на трамвайной подножке, на гребне
популярности широко известного шедевра.
Современные режиссёры хорошо усвоили из истории,
что даже самая гениальная опера при первом своём
появлении на публике может с треском
“провалиться”, как то случилось в своё время с
“Травиатой” и “Кармен”; падкий же на
комплименты творец всегда априорно рассчитывает
на успех.
Вот потому-то помянутый уже режиссёр
Бертман, например, хватается именно за
“Пиковую” Чайковского, небрежно выкидывая из
неё не только Полину, но и все те “ненужные”
хоровые сцены и ансамбли, которые
камерно-гастрольному театру “быстрого
развёртывания” просто не осилить технически. Он
и не подозревает, что движется по давно уже
проторенному пути: Питер Брук, к примеру, лет
восемь назад поставил некое “Впечатление от
Пеллеаса”. При ближайшем рассмотрении
выяснилось, что пресловутое “Впечатление” –
ничто иное, как опера Дебюсси “Пеллеас и
Мелизанда”; однако все драматургически
“рыхловатые”, то есть – сложные для
постановщика, или просто (по мнению Брука)
“длинные” фрагменты оперы были нещадно
иссечены и удалены. Вот ведь как всё, оказывается,
просто! Современный режиссёр очень обижается,
когда его “видению” противопоставляется
запылённый клавир с конкретным текстом и не
менее определёнными нотными знаками…
Петербургский режиссёр Додин, также
недавно поставивший “Пиковую” (в Амстердаме),
выбрал в качестве отправной точки сомнительную
идею, уже благополучно проваленную много лет
назад Мейерхольдом в ленинградском МАЛЕГОТе (но
на Западе об этом ещё пока никто не знает!): всё
происходит лишь в воспалённом воображении
Германа в то время, когда последний пребывает в
дурдоме. И правда, дурдом: опять, посредством
нелепых и ничем не оправданных купюр, жестоко
оскоплена партитура; Прилепа из оперы исчезла –
её партию поёт… сам Герман; в качестве убежища
для Германа в спальне Лизы и игорного стола в
последней картине, фигурирует огромная кровать…
Да ну и что?! – деньги платят по контракту, а не по
художественному результату; а в пёстрой толпе
критиков всегда найдётся достаточное количество
“прогрессивных” писак, пуще смерти боящихся
упрёков в “неприятии современного языка
сцены”…
Кстати, самое время заметить, что автор
этих заметок вовсе не является убеждённым
апологетом “старой доброй режиссуры”,
содеянной по типу: “отсюда вышел, прошёл туда,
здесь встал и спел, а потом ушёл вон туда”. Нет! Но
я твёрдо убежден, что в любой постановке каждому
эксперименту должна предшествовать мысль; любая
находка должна быть оправдана чётким художественным
намерением и ясной логикой незыблемых законов
театральной сцены. Вспышки лазеров, голая дева на
мотоцикле, гидроподъёмники, акробатика на тросах
и пиротехника… “Здорово!” – думает зритель,
вздрогнув от очередного взрыва хлопушки. – “Но
зачем?” – задумывается он, выходя из театра.
Иными словами, смысл и талант – вот то
“немногое”, без чего самая роскошная постановка
остаётся дешёвым площадным шоу на потребу толпы.
Великолепная постановка “Риголетто”
Джонатаном Миллером, например (перенесшая
действие оперы в “столицу мафии” – Чикаго
тридцатых годов), как раз и подкупает тем, что при
целостной музыкально-драматургической ткани
оперы, даже сам сюжет вердиевского шедевра был
абсолютно выстроен логически, а атмосфера, дух и
смысл произведения получили великолепное
сценическое воплощение; малейшая коллизия в
поведении любого персонажа несла в себе
абсолютную драматургическую оправданность. В то
же время, в силу вполне очевидных причин, удачных
экспериментов в этом направлении – единицы.
Действительно, попробуйте “осовременить” того
же “Онегина”, сдвинув сюжет во времени – к
примеру, в сегодняшний день. “Есть девушки в
русских селеньях”, конечно же, и поныне – но вот
“новый русский”, танцующий котильон или экосез
– согласитесь, это уже попахивает сюрреализмом…
Тем приятнее вспомнить подлинные
удачи: Гарри Купфер на фестивале в Брегенце
блистательно поставил “Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февронии”, сознательно
поместив действие оперы как бы вне
определённого времени вообще и ободрав с
партитуры Римского-Корсакова нарост
приторно-лубочной “сказочности”, столь
характерный для российских постановок! Купфер
вынес на первый план и обострил глубинную
сущность оперы; иными словами – её нравственную
идею*.
А Питер Селларс? – в рамках
Глайндборнского фестиваля он поставил на сцене ораторию
Генделя “Теодора”. Вдумчивые английские
критики, разумеется, стали допекать его
расспросами: почему-де оратория, да зачем
поставил, и вообще: “Что вы этим хотели
сказать”?! Особенно много вопросов вызвал
своеобразный язык жестов Селларса, во многом
позаимствованный им из самых различных обрядов
Востока, театра Кабуки, и так далее. На все
вопросы Селларс дружелюбно отвечал, что: “На мой
взгляд, опера – это метафора… Конечно, если вы
хотите ставить нечто в реалистической манере,
никто не может вам это запретить. Однако во
времена Генделя, как вы знаете, театр в Англии
переживал далеко не самые лучшие дни – и я
убеждён, что композитор, назвав своё сочинение
ораторией, на деле творил некий театр в своём
воображении… И я решил, что уже настало время
воплотить этот опус на сцене театральными
средствами”. Мне же лично показалось, что Питер
Селларс просто продемонстрировал миру, как –
ничего не коверкая и не “переосмысливая”, а даже
наоборот: вложив в достаточно абстрактное (и
очень длинное!) музыкальное произведение
близкий сегодняшнему зрителю контекст,
великолепно выраженный театрально-сценическими
средствами, можно создать подлинное
творение музыкального театра.
Постановщикам же иного плана, с огромным
рвением работающим на потребу пошлости и дурного
вкуса, приходится сегодня, как это ни странно на
первый взгляд, очень нелегко. Во-первых, их
много – а оригинальных идей и
профессионализма у таких “творцов” как раз до
обидного мало; но основная причина кризиса даже
не здесь. Дело в том, что всякая выходка,
противная законам театра и хорошего вкуса,
действует на так называемую “невзыскательную”
публику подобно наркотику, требуя с каждым разом
всё большей дозировки. Но время тоже не стоит на
месте: после дикого (во времена оно!) скандала по
поводу участия в спектакле почти раздетой
дамы, на оперную сцену явились батальоны абсолютно
голых женщин; Мефистофель уже выезжал на сцену в
чёрном “Шевроле Каприс Классик” (разумеется, в
пику белому “Харлей-Дэвидсону” Фауста!); в
“Катерине Измайловой”, после почти невинных
занятий любовью главных героев на багажнике
автомобиля (понятно, что тело убиенного Бориса
Тимофеевича аккурат в этот багажник и
загрузили!), в следующей постановке этой оперы
плотским утехам под музыку Шостаковича
предаётся сразу около сорока работников –
причём проделывают они это с… тушами забитых
свиней.
…Да, шокировать публику становится всё
труднее. Настроенному на успех творцу на тяжком
пути творческого поиска остаётся только одно:
кромсать кружево шедевра, елико возможно,
зазубренной бритвой своего таланта. “А я так
вижу!” – обиженно заявляет художник сцены (или
корифей дирижёрской палочки) – и, ведомый
вдохновенным отсутствием вкуса и артистическим
небрежением к здравому смыслу и логике,
наворачивает нелепость за нелепостью, небрежно
смешивая на своей палитре “в одно целое”
Римского-Корсакова с Моцартом, а Доницетти – с
нижегородским лубком, щедро подмешивая туда и
дешёвых балаганных трюков, и столь необходимого
нынче “сексу”.
Аргумент: “А я так вижу!”, скорее всего,
вряд ли послужил бы серьёзным оправданием для
человека, который (руководствуясь афоризмом
самого автора), отсёк нечто, на его взгляд,
“лишнее” у одной из статуй Микеланджело.
Наиболее вероятно, что и горячее желание
“осовременить” кое-что из Достоевского или
Шекспира – скажем, посредством переписывания
опусов последних – не принесли бы
“переосмыслителю” широкого общественного
признания. А уж попытки кардинального улучшения
живописи Пикассо и Ван-Гога, думается, повлекли
бы за собой приговор уголовного суда.
Да, разумеется: в случае с Чайковским или
Верди, по вполне понятным причинам, судебного
преследования со стороны авторов музыки и
либретто опасаться не приходится; в своё
оправдание “экспериментаторы” часто говорят,
что партитура любого шедевра всегда сохранится в
неизменном виде. И никого уже не волнует, что
деятельность “сексуально раскрепощённых”
творцов-передельщиков или фанатичных любителей
“приближения” – неважно, к Пушкину или к
“сегодняшней реальности” – наносит обществу
значительный вред в отношении нравственном
– иными словами, в той области, которая сегодня в
мире является весьма и весьма абстрактной.
Моральный ущерб получают авторы оперы, и в
страшном сне не воображавшие голых модисток,
ревущих мотоциклов, костюмов от Версаче и прочих
“режиссёрских находок” на сцене; в равной
степени страдают и те зрители, кто впервые
ознакомился с классическим шедевром в подобном
прочтении.
…Читатель мог бы воскликнуть: так как же
определить, кто имеет право на эксперимент, а кто
– нет?! Но меньше всего меня волнует подобный
вопрос, сама постановка которого неверна в
принципе. Здесь решающим, в конечном итоге,
остаётся лишь одно обстоятельство: мера
таланта (как, впрочем, и мера бездарности, что
далеко не одно и то же). И если человек решается на
художественный эксперимент, сугубо художественные
задачи при этом и преследуя, это одно: даже в
случае неудачи подобная работа приносит пользу
хотя бы в виде эстетического и профессионального
опыта. Но если определённого сорта постановщик с
самого начала стремится к “успеху” – нынешнему
синониму скандала; или посредственный
профессионал (серость которого и послужила
главной движущей силой его карьеры) готов
сляпать очередной гамбургер “в современном
стиле” или, того хуже, “оригинально прочесть”
какую-то партитуру, то… “мне не смешно, когда
маляр презренный мне пачкает Мадонну Рафаэля”.
Разумеется, даже хороших профессионалов в
мире – единицы; театры же должны собирать
публику, продавать билеты и как-то оправдывать
своё существование. И, в строгом соответствии с
законами коммерции, посредственный товар
объявляется “самым лучшим” – иначе его просто
не сбыть! В небольших городках Германии и Франции
нередки случаи так называемых
“минималистических” постановок, когда на сцене
помещаются, скажем, кирпичная стена, помойка и
кровать: одинаково хорошо для “Дон Карлоса”,
“Мазепы” или “Риголетто” – к тому же, меньше
хлопот для постоянно меняющихся в маленьких
труппах артистов, которым уже не требуется
длительный (оплачиваемый!) репетиционный период.
Однако хорошо известно, что для того, чтобы убить
какой-нибудь вид искусства, вполне достаточно
лишь поставить его на строгую коммерческую
основу.
…Во все времена театр считался храмом
искусства; надо ли говорить, насколько само
понятие храма несоединимо как с балаганом,
дающим сценки игривого содержания (глумливо
пользуя музыку и сюжеты великих мастеров
прошлого!), так и с так называемой “коммерцией”.
Призыв выгнать торговцев из храма, бесспорно, мог
бы стать весьма эффектной концовкой для статьи;
но я больше склоняюсь к мысли, что мы просто
должны верить и ждать настоящих профессионалов и
талантов, которых не может быть много;
Мастеров, призванных вернуть искусство в
музыкальный Театр. А до той поры надо, наверное,
почаще напоминать себе и другим: бойтесь
лжепророков, ибо сказано: по плодам их узнаете
их…
Мне привелось находиться в
Брегенце весь фестивальный сезон, и я достоверно
знаю: кроме меня, только один критик из России
посетил “Китеж”. Всем остальным, кто писал об
этой постановке, пришлось довольствоваться
“пиратскими” копиями с телетрансляции канала
“Арте” -- ужасно неудачной телеверсии спектакля.
Но дружно обругали Купфера (естественно!) почти
все: разве, мол, способна “немчура” понять нашу
“русскую душу”?!. Грустно. (назад)
Кирилл Веселаго
veselago@psynet.net
Перепечатка
этого материала целиком или по частям возможна
только по согласованию с автором.
|