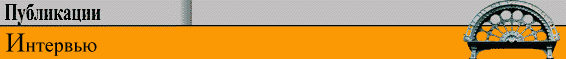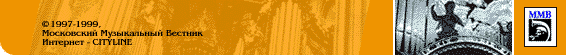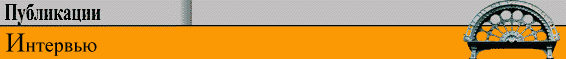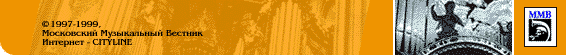|
Юрий
Александров: «Семен Котко» - это наш «Ричард
III»
Прошедший
сезон Мариинского театра во многом стал
сезоном Юрия Александрова, который
поставил на его сцене сразу три
(!) больших
спектакля – «Свадьбу Фигаро», «Дон
Карлоса» и «Семена
Котко».
В этом
же сезоне,
кстати, Александрову была вручена «Золотая
Маска за постановку оперы Зигфрида
Маттуса «Песня о любви и
смерти
корнета Кристофа Рильке» в его театре «Санкт-Петербург
Опера». Но все же главным на сегодняшний
день спектаклем Александрова,
позволяющим говорить о нем
как об одном
из несомненных лидеров российской
оперной режиссуры, стал «Семен Котко».
И
не
случайно
именно ему выпала честь открывать
фестиваль «Звезды белых ночей».
–
«Семен Котко», на мой взгляд, является
театральным событием, по силе
воздействия главным «Огненному ангелу»
и «Истоку». Как вам пришла в голову идея
этой постановки?
–
Это идея Гергиева. Хотя я все время «подсовывал»
это название. Я видел очень хороший
спектакль Покровского, который
взволновал меня музыкально и очень
насторожил театрально. Тогда было время
коммунистического расцвета. И спектакль
получился эмоциональным, но
поверхностным. Покровский честно сделал
постановку по повести Катаева «Я сын
трудового народа», где вовсю старались
играть плохих и хороших. Но это все было
не так, как задумал композитор.
–
Вы считаете, что опера Прокофьва сама по
себе хороша и интересна сегодня?
–
Опера гениальна. Прокофьев дальновиднее,
чем мы думаем. Музыка оперы –
философская, Прокофьев пишет между
строк. И как музыкант я это ощущаю. Меня
волнует партитура. В партитуре есть
места гениальные, связанные с
психологическими характеристиками,
драматическими узлами – финал III
действия, например. Но есть вещи, которые
являются провальными, если относиться к
этому произведению с нормальной точки
зрения. Например, финал. Потому что никто
не верит в коммунистический рай, который
предложен у Катаева и поддержан
Прокофьевым этой жуткой музыкой –
музыкой идиотов. Но Прокофьев пошел
дальше. Он зашифровал то, с чем мы
столкнулись в жизни уже позднее.
Я
вообще никогда не инсценирую, не
разыгрываю историю, придуманную
либреттистом. Диапазон музыки
неизмеримо выше, чем у литературного первоисточника.
Я придумываю свои сюжет, свою историю,-
будь то «Сказки Гофмана» или «Семен
Котко». И, наверное, мои мысли совпали с
мыслями людей, которые были в зале.
Потому что я считаю, что Семен Котко –
это не персонаж, Семен Котко – это те
люди, которые сидели в зале, и те люди,
которые были на сцене – тоже Семен Котко.
Потому что это наше прошлое, очень
близкое, и, кто знает, может быть, это
и наше будущее... Этот спектакль
воспринимается мной в контексте моей
жизни, жизни общества, вернее,
перспективы жизни общества. Работая над
спектаклем, я искал своего смысла, своих
приспособлений и своего ощущения этой
музыки. Как музыкант я отношусь к этой
партитуре с величайшим почтением.
Поэтому я не стал ее резать, Нам прислали
из Грузии клавиры «Семена» – страшно
смотреть. Создатели того спектакля
ощущали неполноценность оперы, и они
попытались с помощью купюр собрать
нечто новое из этой музыки. Я думаю, что
это было нехорошо. И, кстати, тот
спектакль прошел всего несколько раз. Мы
с Гергиевым оставили партитуру
абсолютно без изменений. Кто-то
предлагал изменить текст, – «Да
здравствует Ленин» и так далее. Я
отказался от этой идеи. Потому что это –
наша история, наша хроника, наш «Ричард III».
Кто-то говорит: с финалом надо что- то
придумать, там такая глупая музыка. Но
ведь мы жили глупостями, мы жили
одинаково, мы были без лиц.
«Семен Котко» –
это серьезный итог моей жизни. Я подхожу
к своему 50-летию и рад, что я это сделал.
Хотя, по большому счету, он ничем не
отличается от моих других работ, потому
что каждая – это осмысление жизни. Взять
хотя бы «Рильке». Это тоже история про
солдата, немецкого солдата. Эту премьеру
я играл 22 июня. В день начала нашей войны.
Есть вопросы общечеловеческие.
–
Спектакль наполнен философским
содержанием, его сценическая ткань –
символами. При этом он действительно
волнует, в отличие от многих современных
постановок, которые грешат чрезмерной
концептуальностью. Хотя в спектакле все
безусловно выстроено, в нем нет холодной
интеллектуальности, он обращен к сердцу.
Мне кажется, это связано с
необыкновенной отдачей певцов, их
актерской работой.
– У
меня есть интересный опыт. Когда я
пришел в этот театр, здесь ставили «В
бурю» Хренникова. Та же самая тема: земля,
крестьяне, большевики, Ленин, И я помню,
как рвались актеры в тот спектакль, как
Лейферкус репетировал роль Ленина, –
картавил в буфете, все эти жестики... Это
было настолько наполнено цинизмом, мне
не передать... Все играли, корчились на
сцене, а потом хихикали в буфете.
Спектакль получился насквозь фальшивым.
А
сейчас я был поражен, как молодежь, – а в
спектакле в основном занята молодежь –
горячо приняла эту тему. Я с самого
начала пытался убедить их в том, что это
наша история, и над ней нельзя смеяться.
И когда они поняли, что это не история
про кого-то, это история про нас – это
могло быть с нашим дедом, отцом, так же
страдали наши матери и бабушки, – сразу
появился другой тон, Актеры начали
играть очень чисто в смысле интонации.
Хотя, в то же время, я постоянно говорил:
«Ребята, это фарсовая история». И
фарсовые моменты есть в спектакле, когда
растягиваются
стол и персонажи за ним – как куклы у
Шендеровича. Но есть моменты истины, и
над этим нельзя шутить. Многие из ребят
выросли не только профессионально, но и
граждански. Мы долго и тщательно
репетировали. И я доволен всеми, потому
что они сработали честно. Поэтому спектакль
и волнует зрителя.
-
В составе спектакля есть, на мой взгляд,
прекрасная находка: Беззубенков,
который играет Ткаченко.
Противоположность творческого облика
певца с его насквозь положительным
обаянием, и персонажа дает снование
к раскрытию шифра прокофьевской оперы.
Есть
такое мнение: Александров сделал все
наоборот, Кулак стал положительным, а
большевик отрицательным. Это глупость. Я
настаивал с первого дня работы над
спектаклем: нет плохих и хороших. Есть
просто русские люди. Самое страшное – не
иноземцы, а то, что русский разрывает
русского, впивается в вену. Это самое
страшное. Упаси Господь думать, что
Александров выждал момент, когда
дрогнули большевики. Не об этом речь.
Хотя, когда большевики задумали
импичмент президенту, и он не состоялся,
ко мне подходили в театре и говорили: «Ну
что ж, коммунисты дали вам возможность
доставить спектакль, но вы
за него еще ответите». В
опере гениально выписаны типажи: у
каждого своя лейттема, лейтритм. Я
настоял на том, чтобы Беззубенков играл
Ткаченко. Потому что у этого героя такое
же насквозь положительное нутро, а у
него все отнимают: родину, семью, и, в
итоге, –
лицо.
-
«Семен Котко» – третий ваш спектакль за
этот сезон в Мариинском театре. С чем это
связано?
–
Это было настоятельное требование
Гергиева. Я не хотел ставить много. Я
хотел поставить только «Семена Котко».
Но Гергиев потребовал, и я не жалею, что
сделал эти работы. У них есть свои плюсы,
хотя я очень страдал, что не делал эти
работы с нуля. В чем сила «Семена Котко»?
Эта работа сделана от начала и до конца
моей группой: моим балетмейстером,
моим художником, художником по свету.
Когда я беру за основу старый
неудавшийся спектакль, как это было с «Дон
Карлосом», я забываю все свои идеалы и
таланты. Я превращаюсь в циничного
профессионала, который должен выполнить
долг. Смотрю, что где не получилось, что
нужно переделать. Это – как математика.
Но потом увлекаюсь, хотя настоящего
вдохновения такая работа все равно не
приносит. Мне кажется, что все, что можно
в этом театре я уже перелицевал. Новых
режиссеров, которые сюда приходят, я
сразу предупреждаю, что за них я ничего
делать не буду.
–
А как же «Санкт-Петербург Опера» Не
оказалась ли она забытой?
–
У меня должна была состояться премьера «Пиковой
дамы» 6 июня. Это должно было стать
завершающим спектаклем триптиха (вместе
с «Евгением Онегиным» и «Борисом
Годуновым»). Мы это придумали с
Пиотровским. Но когда Гергиев сказал мне,
что премьера будет не в августе, а 18 июня,
мне пришлось отложить «Пиковую» на
осень. Мне внутренне хотелось это
сделать. Этот спектакль я «вынашиваю»
давно, и не было бы ничего хорошего, если
бы он утонул в шуме и ажиотаже, которые
были связаны с юбилеем Пушкина. Я
облегченно подумал, что Господь меня
уберег.
-
«Санкт-Петербур Опера» долгое время
существовала как театр с раритетным или
современным репертуаром. А сейчас вы
ставите «Паковую даму» а «Дон Жуана»,
которые могут идти везде. Ваш театр
меняет направление?
-
Дело в том, что я не мыслю свой театр в
узких рамках одного направления. Мы
будем делать все, что нам захочется. В
театре есть очень хорошие голоса. У меня
только теноров восемь человек. В театре
есть большие спектакли и камерные. Я уже
придумал план жизни театра до 2003 года.
Там и опера Пашкевича, и «Поругание
Лукреции», и «Адриана Лекуврер». Много
самых разных названий, и я думаю, что
театр никогда не будет замыкаться на
каком-то одном направлении. Мы будем
играть и современную, и старинную музыку.
Для нашего театра по-прежнему пишут.
Только что мы показали оперу Ходоша «Беззащитное
существо» по Чехову. И поиск будет
продолжаться.
Я
считаю, что в городе исчез хороший театр.
Он - назывался
Малый оперный. В нем работали Самосуд,
Пасынков, молодой Покровский, Это была
лаборатория. Сейчас театр имени
Мусоргского, может
быть и хороший, но другой театр. Со
временем «Санкт-Петербург Опера»
превратится в Малый оперный. Мы не будем
ставить «Войну и мир» или Вагнера. Но
обязательно будем ставить
Даргомыжского. «Травиата» и «Риголетто»
– очень камерные оперы.
Сейчас
мои актеры играют в Мариинском и хорошо
играют. Для меня это лучшая похвала.
Заканчивая консерваторию, певцы умеют
издавать звуки, отставить ногу, выходить
на авансцену, – то, чем баловались их
педагоги в юности. Мой солист Эдем
Умеров спел в «Лоэнгрине», Владимир
Галузин поет по всему миру, а начинал у
меня.
–
Вы воспринимаете «Санкт-Петербург Оперу»
как иное творческое пространство, чем
Мариинский?
–
Это две абсолютно разные работы. Хотя
материал один. Я не могу существовать
только в масштабах камерного спектакля,
или только в масштабах большого
спектакля. Мне важно менять эти площадки.
Мне так же важно менять страны. Я 6 лет
работал в Турции, перемены приносят мне
новые идеи и творческие силы. Поначалу в
«Санкт-Петербург Опера» были только
свои актеры. Но недавно Александр
Морозов спел Пимена, и это был удачный
опыт, так как с ним я работаю в
Мариинском.
–
Размышляя о своих режиссерских опытах,
вы все время говорите об актере. Какое
место занимает певец, актер в ваших
представлениях об оперном спектакле?
–
Это мой инструментарий. По первому
образованию я пианист, и знаю, что должен
заботиться о своем инструментарии –
настраивать, протирать тряпочкой,
смазывать. Хотя театр – это вещь
авторская. Профессия режиссера –
профессия авторская, Я должен придумать,
сочинить спектакль.
Партитура стоит на полке – она
совершенно
сухая. Я должен ее увидеть. И это моя
тайна – туда я никого не допускаю. Но мое
авторство может быть выражено только
через актеров. Я даже не могу
дирижировать. Любимов пытался сделать
пульт: когда чувствовал, что спадает
напряжение, нажимал красную кнопку. Это
ерунда. Если у актера не пошло, уже
ничего не сделаешь. Я могу только
страдать. И я знаю, сколько я должен
вложить в актера, чтобы, учитывая все
потери, он сделал все, что нужно.
Придумывается намного больше,
придумывается так, что по потолку бегают
слоны. Потом потолок станет ниже, слоны
превратятся в тараканов. Это неизбежные
потери. Я всего поставил 96 спектаклей. И
знаю, сколько надо вложить в актера,
чтобы в результате достичь покоя.
–
Вы собираетесь продолжить свое активное
сотрудничество с Мариинским театром?
–
В ближайшем сезоне, наверное, нет. У меня
много долгов перед «Санкт-Петербург
Опера», у меня премьера в Италии, у меня
спектакль в Новосибирске. Хочется
встретить свое 50-летие здоровым и
отдохнувшим.
Мне
нравится, что мы находим контакт с
Валерием Абисаловичем. В консерватории
мы дружили, играли в четыре руки. Сейчас
мы снова начинаем двигаться навстречу
друг другу. Мне это приятно. Прошло то
время, когда каждый из нас боролся за
свою индивидуальность. Он царствует
здесь, я царствую у себя. Свободное
творчество свободных людей сразу
проявилось в «Семене Котко». Была работа,
которая меня очень утешила. Хотя три
спектакля в сезоне – это очень сложно. В
камерном театре у меня три ассистента, а
здесь – ни одного. Я рад, что Гергиев с
таким восторгом принял «Семена». Он
много знает, многое видел и у него
безошибочное чутье. Он не сделал ни
одного замечания, хотя в спектакле много
лихих вещей. Важно, что я смог пригласить
Семена Пастуха, это мой любимый художник.
Мы дружим и ценим друг друга. Когда мы
начали думать над спектаклем, я сразу
сказал, что это будет не Катаев, а
Платонов. Это была моя первая идея.
Дальше пошла фантазия. Обломок
астероида, который мчится по космосу под
названием «Россия». В него вцепились
люди. Мы мчимся не зная куда. Нас топчут
– красные, белые... Я рад, что Пастух это
сделал.
Самое
легкое было сделать малороссийские
хатки, и тогда Прокофьев нам бы сказал: «Что
же вы, гады? Идет время, а вы меня так и не
поняли».
-
Вы легкий на подъем человек?
–
Да. Сначала я могу начать кричать, что
этого не будет. И никакими силами меня не
заставить. А тем временем рука уже
тянется за клавиром, и дальше я
увлекаюсь...
-
Что бы вам хотелось поставить на этой
сцене
-
«Воццека». Я давно говорю об этом, хотя
это тоже нерепертуарная опера. Пока не
складывается, но надо дать отдохнуть от
себя. Пусть театр соскучится. В «Санкт-Петербург
Опера» меня не было год – там скучают,
волнуются, ревнуют. Хотя я знаю, что
Гергиев может позвонить и сказать: «Юра,
это никто не сделает, кроме тебя». Посмотрим,
что будет впереди, я готов к любым
сюрпризам. Такой театр.
Беседовала
Александра Дербенева
© 1999,
газета "Мариинский
театр"
|