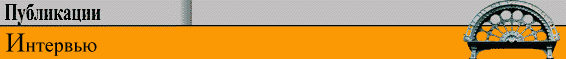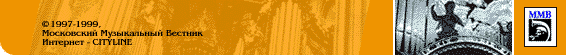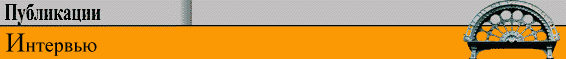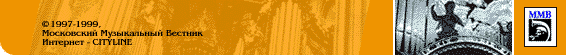|
Ольга Бородина: "Мой принцип — ничего не срывать, а медленно и верно идти вперед". Положение, занимаемое Ольгой Бородиной в современном оперном мире, не только высоко и почетно, но и стабильно. Певица связана долгосрочными контрактами с ведущими театрами, ее с радостью приглашают на престижнейшие фестивали. Вместе с тем, Бородина остается по-прежнему верна Мариинскому театру, выступая на его сцене хоть и нечасто, но регулярно — как минимум, трижды в сезон. Даже такое событие в жизни певицы как рождение сына лишь ненадолго разлучило ее со сценой: уже осенью она открывала сезон в Метрополитен, а в конце декабря и начале января несколько раз выступила в спектаклях Мариинского, исполнив Марфу в “Хованщине” и Амнерис в двух премьерных представлениях “Аиды”. Вскоре после этого с ней удалось встретиться нашему корреспонденту. — Для начала, по традиции, расскажите о наиболее важных для вас событиях последнего времени. — Самое главное — это, пожалуй, встреча с Джеймсом Ливайном. Еще несколько лет назад он приглашал меня в Метрополитен, но тогда я не могла уехать из театра... Потом, спустя какое-то время, наши пути пересеклись в Японии — вместе исполняли “Осуждение Фауста” Берлиоза. И вот, наконец, на открытии нынешнего сезона, мы встретились в Мет. Ливайн дирижировал “Самсона и Далилу”, а пели мы с Доминго, который этим спектаклем отмечал свое 30-летие на сцене Метрополитен Опера. Прекрасная была работа (кстати, “Самсон” — первая опера, которую я спела на языке оригинала за границей, много лет назад, и тоже с Доминго). А затем, сразу же, последовала “Аида” — тоже с Доминго, но уже за дирижерским пультом. — И каков, на ваш взгляд, он в качестве дирижера? Адекватен самому себе? — Я бы этого утверждать не стала... Для меня он в первую очередь, конечно же, выдающийся певец, и за пультом я бы все-таки предпочла ему Ливайна... Но Пласидо настолько милый и обаятельный человек, что его можно воспринимать в любом качестве. — Предполагается ли дальнейшее ваше сотрудничество с Ливайном? — О, да! По его словам, он хочет сделать весь мой репертуар в Метрополитен. Намечены “Троянцы”, “Итальянка в Алжире”, “Аида”. В апреле мы вновь едем в Японию, где я буду занята в “Самсоне” и “Реквиеме” Верди. А 5 декабря мне предстоит петь “Шехеразаду” Равеля и “Осуждение Фауста” в одном из симфонических концертов, которые Ливайн ежегодно дает в Карнеги Холл. Кроме того, он собирается в Карнеги Холл аккомпанировать мне на рояле программу из русской музыки. — А “Кармен”? — Да, да, да! Безусловно! — Стала ли Кармен, как вы мечтали, любимой вашей ролью? — По крайней мере, она стала одной из любимых. Самая любимая все-таки Далила, — партия, которая как никакая другая ложится на мой голос. Я считаю, что мой голос как был, так и остался лирическим. Амнерис или Эболи мне петь довольно трудно, это требует каких-то особых усилий, а Далила от меня никаких усилий, кроме эмоциональных, не требует. — Вы говорили, что хотите создать образ Кармен, не похожий на хорошо известные примеры, не трафаретный... Какой вы видите свою Кармен? — Я действительно не пытаюсь никому подражать, не придерживаюсь никакой тенденции. Моя Кармен... Во всяком случае, она не вульгарная. Она очень гордая и очень свободолюбивая, наверное, как и я сама. В рецензиях отмечалось отличие моей Кармен от других. Писали, что это не плохо, что это даже хорошо, это ново. — А ваша Кармен в финале изменяет Хозе? Перестает его любить, или она ему в глубине души до последнего верна? Нюанс, на мой взгляд, принципиальный. — Трудный вопрос... Я для себя окончательно еще не решила. Все происходит как-то само собой в зависимости от того, в каком настроении я пою спектакль. Когда я на сцене, я уже не Оля, я Кармен, и я сама не знаю, чего от себя ждать. Может быть все что угодно. Одинаковых спектаклей не бывает. И всякий раз открываются какие-то новые грани... Можно же “Мастера и Маргариту”, к примеру, читать десятки раз, совершая все новые и новые открытия. Так и в музыке. — А в Мариинском театре вы Кармен петь не собираетесь? — Хотелось бы. Но в том спектакле, что есть у нас сейчас, я участвовать не буду, потому что он мне категорически не нравится. Спектакль раздробленный, вместо драмы какая-то кухонная сцена... И все это очень серо, мало профессионально. Я смотрела спектакль два или три раза — абсолютно не за что зацепиться. Я соглашусь петь, только если, во-первых, будет настоящий Хозе, а во-вторых, — хороший художник, который сделает из спектакля праздник. Ведь эту оперу, эту музыку любят все. “Кармен” (как, я думаю, и “Самсон”) собирала бы огромную аудиторию. Как сейчас — “Аида”. Не войти в театр! Потому что спектакль — любимый! Так же и “Кармен”. Это яркая опера. Это праздник! — А кого вы хотели бы пригласить на роль Хозе? — Я бы хотела петь с Галузиным. Но он боится французского!!! Я его стыжу (тем более что французский — почти родной язык его жены). Вместе с тем, из русских теноров Галузин, думаю, сегодня лучший. Он прекрасный актер, и сейчас он в блистательной вокальной форме, у него настоящий драматический голос. Он мог бы потрясающе спеть и Хозе, и Самсона. — Года два или три назад (я хорошо помню свои ощущения) вы как певица вдруг открылись мне с совершенно, признаюсь, неожиданной стороны. Я почувствовала реальную, мощную трагедию. Это была “Хованщина”... Если не ошибаюсь, Марфа — ваша первая роль в Мариинском театре? Что изменилось в вас со времени дебюта? — Ну, вы же знаете, что такое Марфа, что такое Мусоргский и что такое певица, которая еще только учится на III курсе консерватории, еще ничего не умеет! Я не раз говорила: сколько буду жить, столько моя Марфа будет развиваться. Это вечная партия. И она никогда не застывает. Конечно, с годами я набираюсь опыта. Я уже многое видела, многое слышала, многое пережила... — Кстати о жизни... Вряд ли вы не ощущаете, как изменилась она в последнее время. Очень многие сегодня переживают невероятную, почти безысходную растерянность. В церковь идут далеко не все. Раньше искусство все-таки помогало человеку уберечься от отчаяния, а сейчас оно становится или все более элитным, недоступным, или оборачивается откровенной фальшивкой. Ваш талант можно назвать экстраординарным и, наверное, вы замечаете, что от вас ждут какого-то откровения. В самом деле, “поэт в России больше, чем поэт”, и певица больше, чем певица... Ощущаете ли вы в связи с этим какую-то дополнительную ответственность? И как вообще с этим быть? — Ох... вопросик, конечно... Очень сложный... Один из моих самых близких друзей Дима Хворостовский всегда меня ругает. Говорит: “Ты сумасшедшая, ты должна уже давно жить на Западе, тебе в России нечего делать. Если ты уедешь на Запад, у тебя будет такая же блистательная карьера, как у меня, а в России страшно, в России, за что ни возьмись, о чем ни поговори, — все плохо...”. Действительно, все так. Даже в парадную мою, как вы заметили, войти страшно. Но! В ответ я всегда говорю: “Я и так много езжу, много чего вижу... Карьеры моей мне вполне достаточно, поскольку я — женщина. Я не стремлюсь оказаться на предельной высоте, потому что, чем выше, тем больнее падать. Я иду медленно туда, куда, как я чувствую, мне указано, но иду по восходящей. Это мой принцип — ничего не срывать, а медленно, но верно идти вперед. Я считаю, что это правильно. Не знаю, может быть, это рецепт не для всех. Люди разные. И каждый думает по-своему. Но если я уеду из дома, если я не буду возвращаться в Россию, если она перестанет быть моим домом, мое творчество лишится самого главного. Я потеряю духовную опору, которая сейчас во мне есть, потому что я здесь живу, потому что я впитываю в себя те же боль и страдание, которые запечатлены в музыке Чайковского или Мусоргского... И все, что я коплю в себе здесь, в России, я увожу с собой. И там пытаюсь свою душу открыть публике, которая ни слова по-русски не понимает... Поразительно, что эти люди даже не смотрят в перевод, который лежит у них на коленях... Но они плачут, потому что суть того, о чем я пою, воспринимается подсознанием. Мне кажется, я постепенно научилась пропускать через себя и передавать то, что уже есть в музыке. То есть, я себя ощущаю проводником. — И вы чувствуете обратную связь? — Безусловно. Если б не чувствовала, вероятно, была бы самым несчастным человеком. И, наверное, не смогла бы заниматься своим делом... Выходить, чтобы видеть лица, полные презрения... Нет... — Вы испытывали когда-нибудь страх сцены? — Страха, наверное, не было. Но я всегда очень волнуюсь из-за той самой ответственности, которую на себя беру. Всегда хочется спеть лучше, но не всегда удается. В жизни все бывало, и разочарования, и, наоборот, какое-то безумное счастье, оттого что вдруг, ты вроде и не ждал, и чувствуешь себя не очень хорошо, а все получилось... — Вы верующий человек? — Да. Но я не фанатик. Я православный человек, хотя мне гораздо важнее ощущать Бога в собственном сердце, и как я верю, знаю только я сама. — А когда Марфу поете? Как Марфа верите? — Я не знаю! Когда я — Марфа, я не знаю, что со мной происходит... Это происходит помимо моей воли. — Судя по всему, вы человек сильный. Но когда бывает плохо, на что вы опираетесь? — На близких друзей. Бывают страшные моменты. Но всегда кто-то приходит, кто дает мне руку. Конечно, я нуждаюсь в близких людях, которые в трудные минуты всегда рядом. Думаю, что и любой человек в этом нуждается. Жизнь у всех неровная. — Как часто вам удается бывать в театре или на концерте в качестве слушателя? — Довольно-таки часто. Я даже здесь умудряюсь походить... Правда, выборочно, чтобы не испортить самой себе настроение. Я почти всегда знаю заранее, стоит идти или нет. Мне кажется, возобновление “Аиды” оказалось удачным. По-моему, окуневские костюмы очень красивы, да и в целом спектакль получился неплохой. — А почему вы пели не в паре с Галузиным? — Потому что он к тому времени не мог приехать. Григорян должен был петь два спектакля, но спел только один. “Два дня в Петербурге, и я начинаю болеть”, — это его слова. Увы, и мне здоровье не позволяет подолгу здесь находиться. Хотя на сей раз я сознательно задержалась. Кое-что отменила, потому что устала, да и после родов нужно было отдохнуть... — Сколько уже вашему младшему? — Да вот уже десятый месяц... Конечно, много новых забот прибавилось, но сейчас, когда тебе за тридцать, все это воспринимаешь иначе, все это — в радость. — Насколько я понимаю, появление на свет Максима практически не отразилось на вашем творческом расписании? — Нет. Единственное — я не смогла петь рассчитанную на меня премьеру “Самсона и Далилы” в Метрополитен, так как была к тому времени на восьмом месяце. Ну и что? Спела на открытии сезона. И еще спою не раз. — Кто из современных музыкантов особенно вам нравится? Чье имя на афише заставляет вас бежать на концерт? — Я обожаю Башмета. Очень люблю Виктора Третьякова. В то же время я с удовольствием хожу на концерты “Терем-квартета”. У нас даже родилась идея сделать совместную запись. Хочется чего-то необычного. Мне уже немного надоело петь классические романсы или народные песни. Я думаю, можно что-то экстравагантное придумать, чего еще не было. Тем более что ребята — мои однокурсники, мы много лет знакомы. Ребята — очень талантливые, и я рада предстоящей работе с ними. — С кем из пианистов вы выступаете на Западе? — И там, и здесь я выступаю с Митей Ефимовым. Сейчас, например, мы с ним учим “Шехеразаду” Равеля и “Смерть Клеопатры” Берлиоза, эту музыку можно петь не только с оркестром, но и в сопровождении рояля. Мы хотим сделать хотя бы одно отделение старинных, барочных арий, думаем о Малере. Недавно, на Новый год, Митя сделал мне подарок — переложение для меццо-сопрано романса Рахманинова “Диссонанс”... Много чего еще не сделано... Александр Чайковский посвятил мне свой новый цикл, над которым я тоже сейчас думаю. — А на чьи стихи? — На стихи русских поэтов-классиков, объединенные очень интересной, на мой взгляд, темой: жизнь актрисы в Санкт-Петербурге. — Вы любите поэзию? Что вообще вы любите читать? — Я очень люблю историческую литературу. О жизни русских монархов, например. Люблю биографии. С большим интересом прочла книжку Берберовой о Чайковском... — Удается ли вам путешествовать не с гастролями, а просто так, для души, чтобы посмотреть города? — С этим сложнее. Хотя посмотреть что-то, конечно, удается. Если я приезжаю куда-то хотя бы на два дня, стараюсь обязательно погулять. Очень люблю маленькие города — Зальцбург, Эдинбург... Люблю Швейцарию. — В какой стране вы чувствуете себя уютнее всего? Елена Образцова, например, говорит, что обожает Испанию, потому что там она излечивается от всех болезней... — Пожалуй, я с ней в этом солидарна. Голос там звучит, как нигде. Видимо, климат Испании действительно благотворно влияет на состояние дыхательной системы. — Может быть, поэтому Барселона приносит столько наград русским певцам? — Да, русских певцов там потрясающе принимают. Что же касается конкурсов... Для успеха, помимо всего прочего, необходимо знать, в чем твой “конек”. Почему я получала первые премии? Потому что была уверена: так, как я, никто не поет Россини. Я никогда даже не пыталась спеть, к примеру, арию Эболи на конкурсе. И вообще, я долго не пела Верди, потому что знала, если начну его петь — потеряю Россини. По большому счету, так и вышло. Совмещать это нельзя. Либо одно, либо другое. Я не считаю себя лучшей вердиевской певицей, так как, еще раз скажу, у меня от природы лирический голос, может быть, лирико-драматический, но тогда с обязательным акцентом на первом слове. Я бы скорее спела Елизавету, чем Эболи, потому что эта манера мне ближе. Если я буду петь только Верди, думаю, очень скоро сойду со сцены — такого напряжения требует его музыка. Но ограничивать себя одним Россини я бы тоже не хотела. В конце концов, я решила разделить свою жизнь на этапы. Для того чтобы не потерять голос, мне нужно чередовать “плотный”, драматический репертуар и лирический, легкий. Время от времени я буду выкраивать, скажем, две недели, чтобы заниматься только колоратурами, только Россини и больше ничем, чтобы поддерживать природные качества, доставшиеся мне от Бога. Правда, я уже давно не пела Россини, но обязательно буду. В ближайших планах у меня “Итальянка в Алжире” и “Золушка” в Ла Скала и в Метрополитен. “Севильского цирюльника”, честно говоря, петь не хочу, мне кажется, это не совсем мое, но подумываю о “Семирамиде”. — А когда можно будет вновь услышать вас дома? — 28 июня на фестивале “Звезды белых ночей”. Буду петь Эболи с Валерием Гергиевым. К сожалению, в то же самое время я занята в “Дон Карлосе” в парижской Opera Bastille и вынуждена буду использовать свой трехдневный перерыв, чтобы прилететь сюда. И, честно говоря, я опасаюсь за качество — вводиться в спектакль придется буквально за несколько часов. Тем более что эту партию я еще не пела на сцене, только записала. Сейчас учу наизусть. Каждый день занимаюсь дважды. — А что еще входит в ваши совместные с Гергиевым планы? — Уже совсем рядом, в марте — “Пиковая дама” в Метрополитен. На Зальцбургском фестивале нас обоих ждет “Хованщина”. Кроме того, еще три спектакля “Хованщины” мне предстоит спеть под его управлением в начале мая в Бильбао. В Лондоне, тоже в мае, на фестивале Берлиоза Гергиев будет исполнять, правда, не с Мариинским оркестром, “Осуждение Фауста”. Вообще я всегда рада каждой нашей совместной работе, и никогда не забываю, что именно ему я как певица больше всего обязана. В сущности, Гергиев меня поставил на ноги. — Кто ваш самый строгий цензор? И насколько вы еще нуждаетесь сейчас в “ухе со стороны”? — Главный цензор — мой концертмейстер Алина Михайловна Ротенберг, которая, к сожалению, уже ушла из театра на пенсию, но мы по-прежнему занимаемся каждый день. Она замечательный музыкант и музыковед в придачу, что для вокалиста очень важно. Она может не только подсказать какой-то выразительный прием, но и рассказать, объяснить, почему это должно быть так. А вообще, немного найдется людей, с которыми я занимаюсь и которым верю. А с теми, кому я не верю, я не занимаюсь. — За время пребывания на Западе каким-то конкретным вещам у кого-нибудь вы научились? — Нет. Абсолютно нет. Если у меня и есть какая-то школа, то моя собственная. Конечно, она не идеальна. Но идеальной нет ни у кого. Голос — это инструмент, который мы всегда носим с собой. И если ты недоспал или что-то не то съел... Все сказывается, к сожалению. Поэтому я никогда никого не осуждаю за то, что у него голос сегодня не звучит. Я понимаю — почему. Я могу осудить серость, плохой язык, непопадание в стиль... Вот этого уже певец не имеет права не знать, если он поет в таком театре, как Мариинский. — А вы сами не собираетесь заняться педагогикой? — Нет! Упаси Боже. У меня нет к этому призвания, думаю. Я хорошо понимаю, как нужно с вокалистами работать, что — сначала, что — потом... Знаю и по своему опыту, и по опыту своих однокурсников, которые у меня перед глазами были. Но... у меня терпения нет. Нет желания, во всяком случае, пока. Мне хочется пока больше делать самой. А для того, чтобы взять на себя ответственность за других, нужно располагать иным временем. Но и это еще не все. Я, наверное, не смогла бы заниматься со всеми подряд, но только с такими учениками, которые понимали бы меня, и к которым хорошо относилась бы я. Мне так кажется. С болванами я не смогла бы заниматься. Так что пока я себя не вижу, не чувствую в роли педагога. Хотя, может быть, кому-то я и могла бы помочь. — А принято ли вообще среди певцов давать друг другу профессиональные советы? Этично ли это? — Да как сказать. Меня, например, многие в театре боятся. Знаете, почему? Потому что я никогда не вру. Если ко мне подходит человек, очень в себе уверенный, и спрашивает: “ну как?”, то я ему говорю то, что думаю, а не то, что он хочет от меня услышать. Потому что и сама себя я тоже не щажу. И прекрасно могу оценить каждое свое выступление. Не бывает такого, чтобы получилось все, на сто процентов. Очень редко, может, раз в пять лет, получится на восемьдесят — так я уже безумно счастлива. И если кто-то хочет узнать мое мнение, я его высказываю. Если меня не спрашивают, я ничего не говорю. Но если человек действительно спел здорово, я сама бегу, чтобы его обрадовать, сказать, какое удовольствие я получила. И мне это — за счастье. Но в театре, к сожалению, существует и другая традиция: если ты спел совсем неудачно, к тебе бегут и злорадно говорят: “Ах! Как было здорово, как было хорошо!”. А ты-то понимаешь, что на самом деле все не так... Ну, театр есть театр... Впрочем, есть люди, которые сами просят меня прийти послушать, сказать, что не получается. И я сама об этом же прошу... То есть, у каждого, вероятно, существует свой круг, в котором сохраняются нормальные дружеские отношения. — Могли бы вы в двух словах сказать, какие качества вам больше всего приятны в людях, и что вам отвратительно? -- Больше всего ценю доброту, искренность, преданность. И ненавижу предательство и ложь. Даже льстивость можно иногда простить, но ложь и предательство я не прощаю. © 1999, газета "Мариинский театр" |