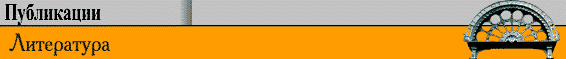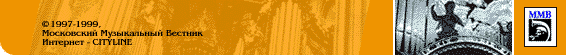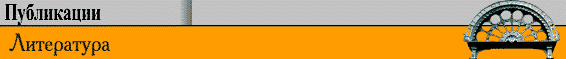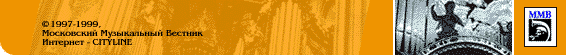|
Фрагмент тридцатый
Из-за сумасшедшей напряженности
гастролей я часто переставал ощущать окружающую
обстановку. Так, работая в Зальцбурге над
концертом Эльгара, я забыл, что нахожусь в городе
Моцарта, а повторяя произведения Бетховена в
Каламазу, вообще не понимал, где я.
Бесполезно напрягать память, пытаясь
вспомнить точные даты и места встреч с
Прокофьевым, Стравинским, Мийо, Мартину или
Хиндемитом, если в это время я учил музыку других
композиторов. А после повторных поездок по
Америке и разным иным странам тот участок моего
мозга, где сосредоточена хронология событий, еще
больше затуманился.
Иногда мне кажется, что впервые я
встретился с несколько замкнутым и молчаливым
Прокофьевым в бостонском доме Кусевицких; а
может быть, это было в Париже, после сонатного
вечера с Горовицем; но вероятнее всего - в
Берлине, где я играл вместе с ним его раннюю
“Балладу” и уговаривал композитора написать
виолончельный концерт.
- Мне мало знаком ваш сумасшедший инструмент, -
заявил он. Я поиграл ему и, демонстрируя
возможности виолончели, видел, как он чуть не
подскакивал на стуле.
“Как здорово! Сыграйте еще раз”. И он
делал пометки в маленькой записной книжечке,
которую всегда носил с собой.
Прокофьев попросил меня показать ему
кое-что из типично виолончельного репертуара, но
когда я выполнил его просьбу, он полистал ноты и
заметил: “Этого не нужно держать у себя дома. Это
плохо пахнет”.
Играя в бридж, он был еще более резок. По
несчастной случайности мне пришлось несколько
раз быть его партнером. Хотя я действительно
игрок слабый, но все же болезненно воспринимал
его замечания, сделанные шепотом: “Что за идиот
выкладывает пики?” - или: “Что мне делать с этой
нелепой игрой при трех без козырей?”. Однажды это
привело к столкновению, которое все же
окончилось нежными объятиями.
Мы переписывались по поводу концерта.
Прокофьевские письма были удивительны. В них
значилось: “Др Гр” (дорогой Гриша) и т. д., с
подписью “Ср Пр” (Сергей Прокофьев). Гордый
своей сокращенной системой одних согласных, он
пренебрегал трудностями, которые она
представляла для корреспондентов. (По резкому
контрасту, письма Стравинского написаны с
тщательной точностью, в лучшем русском стиле.)
Наконец Прокофьев закончил первую часть
концерта и прислал мне ноты. Затем мы начали
обсуждать следующие части. Начало второй, вскоре
появившейся, показалось мне гораздо более
обещающим, чем первая.
- Даже так, - заявил Прокофьев, - это ни к чему
не приведет. Я не могу сочинять вне России. Я
поеду домой.
Когда пришла вся рукопись концерта,
Прокофьев был уже в России, и связаться с ним по
поводу этого сочинения стало не так-то легко.
Первое исполнение состоялось в Бостоне под
управлением Сергея Кусевицкого. Многие трудные
проблемы, с которыми мы столкнулись на
репетициях, вряд ли можно было разрешить с
помощью строчки из прокофьевского письма:
“Делайте все, что считаете нужным. Даю вам carte
blanche”.
Исполнение в Бостоне прошло хорошо, и
прием у публики доставил нам удовольствие.
Спустя несколько дней в Нью-Йорке, где мы
повторили это сочинение, дело обернулось для
меня каким-то кошмаром. В одном эпизоде второй
части, по необъяснимой ошибке, оркестр взял темп
вчетверо быстрее, чем было указано. Времени для
размышления не оставалось, и я молниеносно
набросился на пассажи, которые даже в подлинном
темпе были чрезвычайно быстрыми. Не знаю, заметил
ли кто-нибудь из прессы или слушателей, что
произошло, но до сих пор мне представляется
загадкой, как я остался жив.
В письмах, любезно пересланных советским
посольством, я просил Прокофьева кое-что
изменить, указывая на некоторые недостатки
сочинения. Он поблагодарил за мои замечания и
ответил, что учтет их. Нестьев, советский биограф
Прокофьева, говорит, что этот концерт - последнее
произведение “зарубежного периода”, наименее
продуктивного во всей карьере композитора, когда
были еще сильны влияния буржуазного Парижа. Но
вернее всего, что собственная
неудовлетворенность сочинением заставила
композитора почти полностью переписать его.
Несмотря на то, что большая часть прежнего
материала сохранилась, он превратился в новую
композицию, симфонию-концерт ор. 125. Я услышал его
в мастерском исполнении советского
виолончелиста Ростроповича и благодарен, что
теперь существует два больших произведения для
виолончели этого великого композитора и
незабываемого человека.
Кто-то однажды спросил меня, со сколькими
скрипачами и пианистами мне довелось выступать
на концертной эстраде. Ответить было легко,
потому что их было немного, и я мог вспомнить
каждого. Но как труден был бы ответ, если бы
вопрос относился к дирижерам. Однажды я
попытался сосчитать их, но пришлось отказаться,
когда дошло до цифры триста.
Я играл со всякими дирижерами - молодыми и
старыми, знаменитыми, неизвестными, стонущими,
притоптывающими, с мастерами и
посредственностями. Но не встретил среди них ни
одного, кто страдал бы комплексом
неполноценности.
Мы живем в век дирижера. Несмотря на
широкое распространение, дирижер - сравнительно
новое изобретение, не такое, конечно, новое, как
вертолет или телевизор, но достаточно
современное, если подумать о столетних скрипках,
на которых играют до сих пор.
Современные симфонические оркестры
выросли в сказочные организмы, превосходящие
один другого по размерам и блеску. Точно так же
всем этим генеральмузикдиректорам, маэстро,
сэрам или, как водится в Америке, - докторам
разрешено придавать собственному значению
огромные масштабы.
Один лишь всеобщий интерес к
симфонической музыке не может возместить
гигантских расходов, необходимых для содержания
нынешних оркестров. Концерты должны
поддерживаться, озаряться неким новым обаянием,
отблеском чего-то божественного, словом -
руководителя-сверхчеловека. Больше, чем какой-то
другой музыкант, этим требованиям удовлетворяет
дирижер. Центр внимания переместился от
примадонны, примабалерины и солиста-виртуоза к
дирижеру, который, как исполнитель, объединяет в
себе всех троих. Если он вообще заслуживает
порицания, то не столько за выполнение своей
роли, сколько за то, что претендует на корону и
носит ее так непринужденно.
Дирижерам кажется, что они играют на
величайшем из всех инструментов - на оркестре.
Возможность превратить сотни исполнительских
индивидуальностей во что-то, вроде тубы или
флейты, представляет для них заманчивое
искушение. Правда, эти артистические коллективы
могут играть как один, и при известных
обстоятельствах думать и чувствовать одинаково.
Однако их чувства далеко не всегда обладают с
чувствами руководителя. Например, репетиция для
них всегда оказывается слишком длинной и
скучной. А для дирижера она никогда не бывает
достаточно длинной. Усталый или соскучившийся
дирижер был бы очень приятен, но таких никто еще
не видел.
Практически дирижер во всем представляет
контраст своим оркестрантам. Ведь он пребывает
на самой вершине своей “команды”, и никто
никогда не слыхал о дирижере, пробивающем себе
путь к ому, чтобы стать фаготистом. А некоторые
оркестранты стремятся (иногда им это удается)
сделаться дирижерами. Однажды Кусевицкий
пожаловался: “Они не хотят меня слушаться. И вы
знаете почему? У меня в оркестре по меньшей мере
две дюжины потенциальных дирижеров”.
В большинстве случаев, когда неудачливый
виолончелист или трубач решает прекратить
мучения со своим инструментом, чтобы, стать
дирижером, переход этот совершается сразу и
поистине потрясает: подлинное чудо превращения!
Как только он отделался от инструмента, его
дирижерский дар достигает немыслимых высот. В
прошлом слабая музыкальная память развивается
феноменально. Вместо того чтобы ежедневно и
прозаически уставляться взглядом в партию
второй скрипки, отныне он с легкостью дирижирует
наизусть всей партитурой. Даже его здоровье
улучшается до неузнаваемости - жизнь и карьера
длятся до бесконечности. В то же время на свете
очень мало восьмидесятилетних виртуозов; если
они и бывают, то это всего лишь каприз природы, а в
оркестре вы и вовсе не увидите подобных древних
монументов.
В своем трансе дирижер редко замечает
ремесленное безразличие оркестра. Он весь
трепещет, обильно потеет, меняет рубашки в
антракте и после концерта, а оркестранты играют и
уходят домой, не сменив белья. Он
сверхчувствителен; иной раз одна фальшивая нота
в партии какого-то музыканта повергает его в
конвульсивное состояние. В такие моменты он
может убить, но никогда этого не делает, и,
разорвав свой пиджак или сломав дирижерскую
палочку, быстро приходит в себя. В то же время на
концерте он никогда ничего не рвет и не ломает.
Там он ограничивается взглядом, известным среди
музыкантов под названием “мрачного”. В
зависимости от обстоятельств такой взгляд
становится довольно долгим. Он требует времени,
ибо очень трудно заставить музыкантов слушаться
и дирижера и его взгляда. “Следите за мной,
смотрите на меня”, - вот его постоянная мольба.
Вне концертной эстрады он любит
пожаловаться на то, что дирижер - единственный
музыкант, лишенный возможности упражняться на
своем инструменте. Даже на репетициях он должен
быть в музыкальном отношении настолько выше
оркестрантов, чтобы, обращаясь той или иной
группе исполнителей, всегда суметь
облагодетельствовать их своим мастерством.
Но, конечно, жалобы дирижера редко
способны растрогать его подчиненных. Постоянный
руководитель оркестра знает это и хранит свои
обиды для более сочувственной аудитории.
Есть три причины, в силу которых
дирижер-гастролер, по сравнению с постоянным,
пользуется преимуществами: он действительно
знает свою программу, оркестр его, в сущности, не
знает, и каждый знает, что он скоро уедет.
Может показаться, что некоторые дирижеры
отчаянно влюблены музыку, несмотря на то, что
совсем недавно, сидя в оркестре, они не слишком ее
любили. У них ярко выражено и чувство
собственности. “Не правда ли мой оркестр
замечателен?” “Вы слышали моего Равеля, моего
Чайковского, моего Брамса?” Они также обладают
собственной фирменной маркой технического
совершенства. Конечно, такая вещь, как
дирижерская техника, существует, но если это так,
то каким образом человек, никогда не
дирижировавший и не учившийся этому, способен
дать вполне приемлемое исполнение без всякой
подготовки, экспромтом? Никто не сумел бы
совершить такой подвиг ни на одном инструменте.
Среди дирижеров стало модным говорить:
“Я лишь слуга, старающийся повиноваться тому,
что напечатано в партитуре”. Черное есть черное,
и белое есть белое. Но если кто-то осмелится
спросить дирижера: “В какой мере черное?” или “В
какой мере белое?” - он растеряется. Считается,
что маэстро Тосканини несет ответственность за
создание традиции точного следования партитуре,
хотя он и не пожертвовал бы музыкальной мыслью
из-за точки над нотой. Однажды я спросил у него,
был ли случай, когда он не понял композитора. -
“Вчера, сегодня, ежедневно ,- воскликнул он. -
Каждый раз, дирижируя одной и той же пьесой,
думаю, насколько глуп я был в последний раз, когда
дирижировал ею”.
Между прочим, моей мечтой было послушать
игру маэстро Тосканини на виолончели. Во время
одной из наших поездок из Европы через океан мне
удалось, наконец, привести его к себе в каюту. Моя
виолончель уже дожидалась маэстро, поставленная
на шпиль. Он сел на стул, но когда я протянул ему
инструмент, сказал: “Никакого шпиля, все это
теперешние выдумки”. И вытащил шпиль. Я вручил
ему смычок и он начал настраивать. “Ля слишком
высокое, соль слишком низкое”, - ворчал
Тосканини. Прошло пятнадцать минут, а он все еще
настраивал. Я надеялся, что вскоре начнется
музыка - “О, bestia, stupido, теперь ре слишком
высокое!”. Настраивание продолжалось, пока не
пришло время идти завтракать. Так я никогда и не
услышал, как Тосканинн играет на виолончели. Я бы
удивился, если бы кому-нибудь это удалось.
Вполне очевидно, что существуют хорошие и
плохие дирижеры, но публике не всегда легко
различить их. Дирижер во многом зависит от
благосклонности общественности, публики и
прессы. От него ждут действий, весьма далеких от
самой музыки. Он должен быть обаятельным
оратором, организатором и игроком в бридж. Его
семейная жизнь должна быть безупречной, иной раз
один-единственный промах стоил работы
известному дирижеру.
Некоторые не могут уловить, в чем
“изюминка” дирижерского искусства. Мой личный
дирижерский опыт, вопреки или благодаря успеху,
сделал меня еще более верным моей старой и такой
трудной в общении виолончели. Когда я давал
концерты в Денвере, меня пригласили
продирижировать местным оркестром и сказали, что
это поможет увеличить сборы. Объяснив, что
недостатка в дирижерах нет, я отклонил
приглашение. Последовали новые телефонные
звонки, меня просили переменить свое решение, и
мой импресарио Артур Джадсон настойчиво
советовал дирижировать. В один прекрасный день,
еще упорствуя, но смущенный просьбами, я спросил
совета у своего врача, музыканта-любителя.
Поколебавшись, он наконец сказал: “Во всяком
случае, вы должны принять приглашение. Вы никогда
не делаете гимнастики. Это будет полезно для
вашего здоровья”. И я согласился.
Юджин Орманди помог составить программу и
пожелал показать мне кое-что из своих
технических приемов.
Я получил четыре репетиции и несколько
обещаний насчет половины сбора. На репетиции
старался следовать примеру Артура Никита: он
знал человеческие слабости и, гастролируя,
никогда не обращался к оркестру, не запомнив
предварительно хотя бы несколько фамилий
музыкантов. Такие простые слова, как “господин
Оберштрейхер” или “господин Шмидт”, делали
чудеса.
Наконец настал вечер моего дирижерского
дебюта. Полумертвый от репетиций и разговоров, я
отправился на концерт. Обычно я очень нервничаю
перед выступлением, но на этот раз был
поразительно спокоен. У меня установились
хорошие отношения с артистами оркестра, и я знал.
что они постараются сделать все как можно лучше.
Озабоченный главным образом своими манжетами
(мне казалось, что они должны быть видны), я вышел
на эстраду и уже собрался было начать увертюру к
“Эврианте” Вебера, как услышал шепот
концертмейстера: “Знамя, усеянное звездами”.
Американский гимн, по местной традиции
исполняемый перед концертом, я не репетировал и
потому с некоторой тревогой сделал знак
барабанщику, предоставив ему играть
необоснованно долго. Я величественно подымал
руку для crescendo, но только когда оно достигло
кульминации, вспомнил, наконец, музыку.
Переполнившая зал публика пела, и
звучание оркестра было впечатляющим.
Последовавшее затем исполнение увертюры к опере
“Эврианта” вызвало бурные аплодисменты.
Очередным номером программы был
виолончельный концерт Гайдна. Почти смущенно
посмотрел я на свой инструмент, стоявший в
артистической комнате, словно это был никогда
раньше не встречавшийся мне предмет. С неистовым
рвением повторял я пассажи, которые играл всю
жизнь. Несмотря на то что концерт Гаидна прошел
очень хорошо реакция слушателей показалась
бледной, по сравнению с тем, как встретили меня в
роли дирижера всей программы.
Маленькая дирижерская палочка одержала
легкую победу над моим “Страдивари”. Но мне это
доставило больше горечи, чем радости, и когда из
разных городов стали приходить предложения
дирижировать, я поклялся никогда больше не
прикасаться к дирижерской палочке. Я и не
прикоснулся, так что концерт в Денвере
запомнился как мое первое и последнее
дирижерское выступление.
“Что это такое? Любовь втроем?
Двоеженство? Гарем?” - смеялся мой друг,
разглядывая фото, изображавшее меня, нежно
обнимающего две виолончели. Он знал, что
по-русски виолончель женского рода. Н когда речь
идет о виолончели, лингвистические правила не
имеют значения. Например, английская
виолончелистка Беатриса Гаррисон, беседуя со
мной о своем инструменте, воскликнула: “Я люблю
его!”
Люди воспринимают виолончель по-разному.
“Нечасто публика может принять виолончель за
собор. Но я принимаю”, - утверждал Дж. Нристли,
описывая игру какого-то виолончелиста.
Виолончель может звучать подобно дуновению
смерти, как в заключительных нотах симфоничекой
поэмы “Дон-Кихот” Рихарда Штрауса. По поводу
вариаций Хиндемита “A Frog Не Went А-Courting” один
критик сказал, что здесь виолончель, не дрогнув,
превращается в жабу. Передают, что Наполеон,
слушая знаменитого виолончелиста Дюпора,
заметил: “Вы превратили мычание в пение
соловья”.
Для меня виолончель - самое важное на
свете и главная сущность нашей вселенной.
Предназначение каждого музыкального
инструмента - звучать, однако даже глухой
способен восхищаться виолончелью как предметом
искусства. Величайшие мастера струнных
музыкальных инструментов считали, что такие
украшения, как завиток, усы и эфы имеют огромную
эстетическую ценность, и отдавали им много
творческих сил, несмотря на то что эти украшения
мало влияют или вовсе не влияют на самое
звучание. Действительно, если бы только звук имел
значение, я не полюбил бы завиток виолончели
настолько страстно, чтобы купить ее, даже не
услышав, как она звучит. Это был “Эйлисфорд”
Страдивари, сделанный в 1696 году. Хотя и весь
инструмент в целом производил впечатление, но
красота, скульптурная мощь и изящество
венчающего завитка были таковы, что я не мог
устоять. Только после реставрации этого
“Эйлисфорда” я, наконец, поиграл на нем.
Звучание было превосходным, но из-за очень
больших размеров инструмента, что характерно для
всех виолончелей Страдивари, сделанных до 1700
года, у меня растянулись пальцы, и пришлось, хотя
и без охоты, спустя год расстаться с ним. Не знаю,
кто сейчас его владелец, однако до сих пор
вспоминаю о коротком романе с этой виолончелью и
изредка вижу во сне великолепный завиток.
Однажды, за много лет до истории с
“Эйлисфордом”, приехав для выступлений в
Лондон, я встретил своего бостонского друга
Эрнеста В. Дена.
- Вы чем-то обеспокоены? Вы здоровы? - спросил он.
- Со мной все в порядке, - ответил я. - Дело в моей
виолончели. Она больна.
Я рассказал ему о трещине в нижней деке и
о долгих часах, проведенных у Альфреда Хилла,
знаменитого лондонского эксперта по скрипкам:
“Даже у него ничего не могут поделать с трещиной,
никто не может”.
Ден сказал, что ему давно хотелось
побывать в магазине Хилла. На следующее утро мы
там встретились, и я познакомил их.
“Здесь есть кое-что достойное ваших
трудов - великолепный Монтаньяна, на котором не
играли около столетия”. Мне вручили виолончель,
а тем временем Хилл показывал Дену свои
сокровища. Полный какой-то чувственной прелести,
богато покрытый золотисто-оранжевым лаком,
Монтаньяна был в замечательном состоянии. Трудно
было поверить, что инструмент сделан в 1739 году. Но
при всей своей красоте она еле звучала, и не
удивительно! Безмолвная в течение столь долгого
времени, она утратила способность речи.
Озадаченный, я с нетерпением боролся, пытаясь
вдохнуть в нее жизнь. Не знаю, сколько это длилось
или как долго возле меня стояли и слушали Ден и
Хилл. - Как она вам нравится? - неожиданно спросили
меня. - Волшебна,-ответил я, продолжая играть,
когда они ушли. Я разглядывал ее и играл как
одержимый, пока, наконец, Хилл не вернулся, на
этот раз в одиночестве: “Мистер Ден не хотел
прерывать нас. Он торопился на пароход.
Монтаньяна - его подарок вам”.
Ошеломленный таким известием, я отнес
виолончель в отель; там, все еще словно в тумане, я
заперся в комнате и, надев сурдину, провел
остаток дня и лучшую часть ночи, играя и изучая
моего нового товарища. Весь следующий день и
следующие месяцы я безнадежно пытался пробудить
свою “спящую красавицу”, и когда начал успевать
в этом, то почувствовал, наверное, такую же
радость, как и принц в упомянутой волшебной
сказке.
Много лет мы были неразлучны, путешествуя
и выступая вместе в бесчисленный концертах, быть
может, слишком частых для того, чтобы оба могли
это выдержать. Мужественная виолончель, хотя и
очень нуждавшаяся в отдыхе, эксплуатируемая во
всевозможных климатах и в любых акустических
условиях, давала лучшее, что могла. Я же, хотя
физически и вполне крепкий, старался уменьшить
ее нагрузку, реже соглашаясь на ангажементы и
даже исключая из программ некоторые современные
произведения, которые казались мне слишком
грубыми для Монтаньяны.
Я знал, что необходимо иметь два
инструмента, но было невыносимо даже смотреть на
какую-нибудь другую виолончель, и еще меньше я
питал надежды на то, чтобы обзавестись достойной
заместительницей. Я рассказал о своих
затруднениях Хиллу, к мнению которого об
инструментах относился с большим уважением. И
тут он нанес мне удар. “Раньше или позже,-сказал
он,-вы откажетесь от Монтаньяны, несмотря на то
что этот экземпляр - замечательное создание
великого мастера. Только Страдивари - nес plus ultra”.
У него есть для меня на примете один
исключительный инструмент и, кроме того, точная
его копия работы Вильома.
Года через два мой друг Ремберт Вурлицер,
нью-йоркский специалист по продаже
реставрированных скрипок, позвонил мне в
Филадельфию. Вурлицер был краток: “Он здесь!
Только что прибыл из Лондона. Поторопитесь”.
Чувствуя, что меня ожидает, я примчался в
Нью-Йорк. Там, увидя “Бодно” Страдивари и сыграв
на нем лишь несколько нот, я снова поддало
энтузиазму и сразу же купил эту виолончель. Как
иногда при первой встрече испытываешь внезапное
увлечение каким-то человеком, так было и на этот
раз. Более пристальное знакомство не
понадобилось, не надо было ни играть, ни изучать.
С первого же дня “Бодио” доставлял мне радость,
и я всецело доверился ему.
В 1725 году Страдивари сделал только две
виолончели, но какие разные! Одна, владельцем
которой является мой старинный друг Джеральд
Варбург, известна под именем “La Belle Blonde”. Она
легкая и элегантная, тогда как “Бодио”
темно-красного цвета и имеет
грубовато-мужественный облик. У него -
классический горделивый завиток. Его эфы и усы
необычны и будто вырезаны решительной
нетерпеливой рукой великого мастера, которому к
этому времени исполнился 81 год. Судя по
внешности, исключительному качеству и богатству
звучания моего “Бодио”, можно было ожидать, что
у него полная драматизма история и героическое
прошлое. Однако я не узнал о нем ничего особенно
интересного, исключая любопытный случай, о
котором прочел во Франции.
В забавном рассказе о Шарле Бодио,
виолончелисте-концертанте и профессоре
Парижской консерватории в начале XIX века,
упоминалось его сольное выступление в концерте,
который начался симфонией Гайдна. Бодио, не зная,
что играет оркестр, разыгрывался на своем
“Страдивари”. Когда его пригласили на эстраду,
он стал играть собственнее переложение симфонии
Гайдна для виолончели и фортепиано и после
нескольких тактов услышал с изумлением смех
публики. Не понимая, чем вызвано это веселье, он
все же всецело отдался исполнению, но смех
продолжался. Окончив пьесу, едва не плача от
оскорбления, он спрашивал: “За что? За что?” -
Ответ был прост: симфония, только что
прозвучавшая в исполнении оркестра, оказалась
той самой, которую преподнес Бодио в виде нелепой
миниатюры для виолончели.
Владельцы великих произведений
искусства-артисты или коллекционеры - несут
ответственность за них. Хотя временами эта ноша и
тяжела, все же удовольствие и честь общения с
великими творениями с лихвой вознаграждают за
все старания сохранить их для будущих поколений.
Гораций Хевемейер был одним из самых
замечательных коллекционеров произведений
искусства, каких я когда-либо имел честь знать.
Обладая острым чувством прекрасного, он и его
очаровательная жена собрали в своем доме на
Парк-авеню в Нью-Йорке уникальные экземпляры -
будь то Вермеер, Страдивари или Мане. Сам
любитель-виолончелист, он обладал двумя
исключительными “Страдивари” - “Батта” и
“Дюпор”.
Когда я впервые увидел их, оба инструмента
стояли рядом, словно коронованные особы,
пребывающие в своих саркофагах. (Мой “Бодио”,
когда я бываю дома, хранится в подобном же
деревянном футляре, специально сделанном для
него фирмой “Хилл и сыновья”.) “Хотите
посмотреть их?” - спросил Хевемейер. Я столько
слышал об этих легендарных инструментах и так
мечтал увидеть их воочию, что почувствовал, будто
меня пригласили войти в рай. Я внимательно
наблюдал, как Хевемейер вынимает виолончели и
осторожно передает их мне. Пораженный и как бы
ослепленный струившимся от них волшебным светом,
я вынужден был на мгновение закрыть глаза. Когда
я снова откыл их, мне представилось зрелище,
которое трудно было выдержать! Блеск красок всех
оттенков, от мягкого до сверкающего, перенес меня
в сказочную страну.
(Когда я диктовал эти строки секретарше,
она прервала меня: “Вам это действительно так
казалось? Даже сейчас, вспоминая, вы, кажется,
задыхаетесь. Неужели музыкальные инструменты
могут вызвать такое впечатление, приводить в
такой экстаз?” В тот момент ее вопрос раздражил
меня, но позже я подумал, что это к лучшему. В
конце концов, ни одно описание не может воздать
должное подобным произведениям искусства. А
стараясь достичь этого, я могу лишь добиться
того, что предстану чрезмерно чувствительным. )
С тех пор, когда бы я ни приезжал в
Нью-Йорк, я не упускал возможности увидеть
“Батта” и “Дюпора”. Но сколько раз бы меня не
спрашивали, которой из двух виолончелей я отдал
бы предпочтение, ответить было невозможно.
Хевемейер одолжил мне “Дюпора”, и я провел с ним
почти год, пока не понял, что предпочитаю
“Батта”. Думаю, что Хевемейер всегда знал об
этом, потому что обычно давал мне поиграть на
“Батта”, и именно на “Батта”, говорил он, я
играл каждый раз перед тем, как уехать. Однажды
Хевемейер признался, что не может одолжить ее,
так как она принадлежит ее зятю, доктору Дэниелю
Кэтлину. Позднее это именно он, дорогой друг
Хевемейер, вступился за мои интересы и убедил
зятя продать мне “Батта”.
Традиционные выражения, вроде “обитатель
нездешнего мира” или “слишком хорошо, чтобы это
могло быть правдой”, звучат в их буквальном
смысле, когда речь идет о “Батта”. Она может
полностью претендовать на то, чтобы считаться
одним из прекраснейших произведений искусства,
когда-либо созданных руками человека. У меня
хранится письмо, в котором Альфред Хилл подробно
описывает трогательную историю великого
инструмента.
“Батта” родилась в Кремоне в 1714 году, но
ее жизнь в течение первых 122 лет окутана тайной.
Известная нам история этой виолончели
начинается только с ее прибытия в Париж в 1836 году,
когда ее увидел и играл на ней знаменитый Серве, а
потом его коллега Александр Батта. Оба они
говорили, что никогда еще в жизни им не
приходилось слышать такого великолепного
звучания.
Батта страстно влюбился в нее. Не имея
денег для покупки, он в отчаянии обратился к
другу, который откликнулся на страстные мольбы и
великодушно подарил ему виолончель. Батта владел
этим инструментом 57 лет. Лелея долгожданного
друга, он отклонял многие предложения о продаже
виолончели. Одно из них было сделано русским
дворянином, который предложил ему в уплату
незаполненный банковый чек. В последние годы
Батта жил в уединении и играл очень редко. Но
по-прежнему отказывался расстаться со своим
сокровищем. Единственной причиной, побудившей
его принести эту жертву, был беспокойство о том,
чтобы обеспечить старую, преданную ему
домоправительницу. Когда сделка свершилась и он
увидел свою возлюбленную виолончель в тот
момент, когда ее укладывали в экипаж, чтобы
увезти, он склонился перед ней и, весь в слезах,
поцеловал футляр.
На “Батта” я долго играл, прежде чем
появился с ней на эстраде. Как и подобает во время
медового месяца, мы избегали общества. Но с того
дня, как я гордо вынес “Батта” на эстраду, новый
стимул обогатил мою жизнь. Прежние инструменты,
на которых я играл до “Батта”, отличались друг
от друга характером или различными
достоинствами, я знал все их качества, недостатки
и капризы, вполне достаточные для того, чтобы
воспользоваться лучшими свойствами и достигнуть
полного успеха. Совсем не то было с “Батта”, чьи
доблести не знали предела. Безграничная по своим
возможностям, она побуждала использовать их
полностью. Никогда я не трудился столь упорно и
не желал столь страстно вызвать к жизни из
превосходного инструмента все, что он мог дать.
Только тогда, думалось мне, я сумею заслужить
честь быть ему равным.
И теперь я выступаю с ним. Может быть, так
будет всегда. Он сохраняет во мне активность,
стойкость. И если я когда-нибудь паду духом,
всегда рядом со мной будет мой чудесный “Бодио”.
Он всегда готов служить и повиноваться мне или...
просто фотографироваться со своим хозяином и его
требовательной возлюбленной.
|