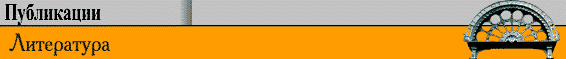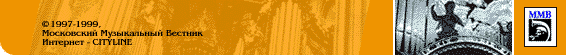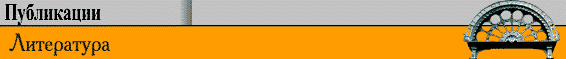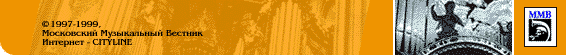|
Фрагмент восьмой
Возвращение в оркестр после
сольных или ансамблевых концертов не всегда было
для меня шагом вниз. Например, в том случае, когда
из Детройта приехал Осип Габрилович. Меня
познакомила с ним его сестра Полина, и мы сразу
подружились. В течение его недолгого пребывания
в Берлине мы проводили много времени вместе. С
удовольствием играл я с ним сонаты и слушал
рассказы о его музыкальной жизни, о Марке Твене,
его тесте.
Занявшись дирижерской деятельностью,
Габрилоиич не бросил своего инструмента, подобно
многим другим дирижерам. К счастью для всех,
несмотря на огромную работу с Детройтским
оркестром, он до конца своей плодотворной жизни
выступал с замечательными клавирабендами.
На одном из его концертов в моей судьбе
произошла серьезная перемена. Дирижер Ефрем Курц
познакомил меня с некоей дамой. Я был очень молод,
она - очень красива. Я смущался, она же была
красноречивой, светской и уже имела первый
брачный опыт. Ее девичье имя - Лида Антик. Она
стала моей женой. Очень музыкальная, живая, она
обладала большим обаянием и честолюбием. Мое
холостяцкое одиночество сменилось бурной
жизнью, закончившейся после девяти бездетных лет
мирным разводом. Сохраняя верность виолончели,
она последствии вышла замуж за известного
французского виолончелиста Пьера Фурнье.
Между 1927 и 1929 годами, переходя из
одного концертного зала в другой, поощряемый
спросом и быстро возрастающими гонорарами,
соглашался на все новые сольные выступления, и в
конце концов у меня осталось очень мало времени
для оркестра и почти никакого - для учеников.
Оркестр пошел мне навстречу, ограничив мои
обязательства двумя десятками концертов в
Берлине под управлением Фуртвенглера и
весенними гастролями за границей.
Эти гастроли, хотя и утомительные, были
волнующими. Словно завоеватель прибывал оркестр
в Париж или в Лондон, а Фуртвенглер, этот поэт
среди дирижеров, вел свою армию к победе. Большую
часть времени мы проводили в пути. Репетиции в
каждом новом городе были очень короткими -
главным образом для того, чтобы приспособиться к
акустическим условиям и расположению оркестра
на эстраде. Мы называли их "пробой стульев".
Концерты шли почти ежевечерне. Куда бы мы ни
приезжали, я повсюду много гулял, и чем меньше
знал язык страны и города, тем интереснее мне
было.
Во время одного из наших визитов в
Париж Фуртвенглер, радуясь возможности
отдохнуть от дирижирования, а я от игры в
оркестре, играли на приеме в германском
посольстве сонату и вариации Бетховена.
Достоинства Фуртвенглера-пианиста особенно ярко
проявлялись в камерном музицировании. Подобно
Габриловичу, он, играя с великолепным
полнозвучием, никогда не заглушал
партнера-струнника, лишенного преимуществ
педали или поднятой крышки.
После исполнения многочисленные гости
выражали восхищение и высказывали соображения
по поводу музыки вообще. Недолюбливая такие
дискуссии, я почти рад был, что не говорю
по-французски. Наиболее понятливые из
собеседников быстро от меня отстали, но один
миниатюрный, однако крепкого сложения, был очень
настойчив. До меня не доходил смысл слов, но
заинтересовало его выразительное лицо и
захотелось узнать, что же он говорил. К нам
подошел Пенлеве, член французского
правительства, с которым я был знаком, - он владел
немецким. Миниатюрный человек продолжал свой
монолог, а потом, после заключительной сентенции,
прозвучавшей как вопрос, пожал мне руку и сразу
же исчез.
- Кто это? Что он говорил?
- Из того, что я услышал, - заметил
Пенлеве, - я понял, что Морису Равелю понравилось,
как вы играли.
- Равель! - воскликнул я.
- Да, наш великий композитор.
- О чем же он спросил? Ведь правда, он
спросил что-то перед тем как уйти? - не терпелось
мне узнать.
- Он действительно задал вам вопрос, -
отвечал, улыбаясь, Пенлеве. - Равель спросил вас,
зачем вы тратите свой талант на ту ужасную
музыку, которую играли сегодня вечером.
- Ужасная!? Ведь это Бетховен!
Ошеломленный, расстроенный, я
размышлял, как мог Равель сказать такое. Хотя,
если бы он поклонялся Бетховену, мог ли бы он
сочинять как Равель? Не относится ли это и к
другим композиторам? Разве не должен быть у них
какой-то особый слух, как у художников особое
зрение, которые вовсе не должны соответствовать
нашему слуху, нашему зрению? С негодованием
возражая Толстому, отказывавшему Бетховену в
таланте, Чайковский писал в своем дневнике:
"Это уж черта совсем не свойственная великим
людям; низводить до своего непонимания всеми
признанного гения - свойство ограниченных
людей". И почти в то же время: "...Баха я охотно
играю... но не признаю в нем (как это делают иные)
великого гения. Гендель имеет для меня совсем
четырехстепенное значение..."
(продолжение следует)
|