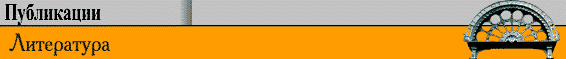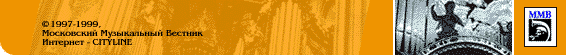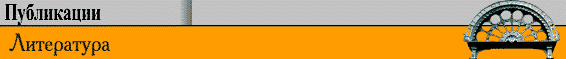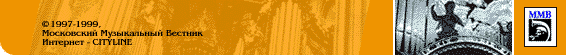|
Фрагмент двадцать девятый
Напряженный сезон 1934/35 года не создавал
идеальной обстановки для разучивания новых
произведений даже при условии суровой
дисциплины. В любом турне может оказаться
достаточно развлечений, непоправимо потерянных
часов, чтобы сыграть злую шутку с путешествующим
музыкантом. Я выступал тогда в Бордо, Лионе,
Люксембурге, Лиссабоне, Опорто, Монте-Карло,
Марселе и Париже. Везде, за редким исключением,
концерты проходили отлично.
В Бордо, на родине великолепного вина, я
позволил себе попробовать слишком много
напитков, а в Лионе неожиданная встреча с Жаком
Тибо и его аккомпаниатором Тассо Янопуло
означала, что после концерта мы будем много
смеяться и мало спать. В Люксембурге дирижер
начал концерт Шумзна на три четверти, когда же я
стал настаивать, что надо дирижировать на четыре,
как и написано в партитуре, он обозвал меня
“примадонной”. В Лиссабоне мой аккомпаниатор
Павловский проигрался в казино до последнего
гроша, в Опорто он потерял половину моих нот. В
Монте-Карло слушателей было необычно мало. Когда
в конце концерта я вышел кланяться, в зале
оставался только один человек. Он мужественно
продолжал аплодировать, заставляя меня снова и
снова возвращаться на эстраду. Я даже сыграл для
него одну пьесу.
Спустя много лет, в Нью-Йорке, в перерыве
между сеансами записи для граммофонной фирмы
“Колумбия”, я завтракал в ресторане “Плаза” со
звукорежиссером, моим другом Годдаром
Либерсоном. Он представил меня Сомерсету Моэму, и
тот заметил, что впервые услышал мою игру в
Монте-Карло. Я сразу же вспомнил и рассказал о
случае с единственным, аплодировавшим мне,
слушателем: “Все время думаю, кто бы это мог
быть”. - “Это был я”, - ответил Моэм.
В Париже случилось так, что я начал
концерт Дворжака смычком вверх вместо обычного
штриха - смычком вниз; незначительная разница для
исполнителя или для реакции слушателей, однако
она привела в волнение дюжину или более
виолончелистов. Но это не омрачило моей радости,
потому что я любил играть в Париже, причем
вдвойне, когда выступал с замечательным Пьером
Монтё. Он сказал, что нам чудесно играется вместе,
но я-то знал, что Монтё, толстый и маленького
роста, терпеть не мог выходить на вызовы рядом со
мной. Он был похож на старого моржа. Через
тридцать лет он стал еще ее замечательным
дирижером...
Затем последовали Вена, Прага, Бухарест и
Белград; Афины с Митропулосом, Антверпен, два
концерта в Брюсселе с Эрихом Клейбером, Бильбао,
Валенсия, Мадрид; Барселона с Казальсом; Женева,
ей и Базель с Феликсом Вейнгартнером, древним,
словно редчайшая музыкально-историческая
реликвия. Я нашел его поразительно помолодевшим.
Он только что женился на очаровательной молодой
женщине, и вместо того, чтобы сберечь жизненную
энергию, не ходил, а бегал повсюду, где только
позволяли пространство и обстоятельства. Не
знаю, чем объяснялось его сказочное проворство:
женитьбой или профессией дирижера, которая,
видимо, препятствует естественному старению
человека.
В Лондоне я дал три сольных концерта (с
Айвором Ньютоном), симфонической программе
выступил с сэром Лондоном Рональдом. Затем
отправился в Будапешт для совместного концерта с
Бела Бартоком. У нас оставалось мало времени для
репетиций, и он попросил (я приехать с вокзала
прямо к нему домой. В дверях меня встретила
какая-то дама. Она говорила по-венгерски - язык, на
котором мне были известны только два слова - gordonka
(виолончель) и kapusta (капуста!). - Как вы поживаете? -
спросил я.
Она ответила что-то очень длинное, улыбнулась
и пригласила меня войти. - Вы говорите по-немецки?
Она произнесла еще множество венгерских
слов, среди них, однако - не фигурировало слово
kapusta. - Может быть, по-французски?
Она предложила мне сигарету и заговорила
о чем-то, ее, видимо, оченнь волновавшем, а может
быть, это только показалось, когда после особенно
значительных сентенций дама вытерла лоб платком.
Я слушал, дав ей возможность выговориться до
конца, а затем мы молча смотрели друг на друга.
Чтобы прервать паузу, я спросил: действительна
это дом Бела Бартока. Ее лицо просветлело, когда
прозвучали знакомые слова.
Наконец появился Барток. Какое это было
облегчение и радость - видеть его. Он спросил,
успешно ли прошло мое турне, осведомился, могу ли
я сначала репетировать, а потом отдохнуть. Барток
заговорил венгерской народной музыке, о
сочинениях, над которыми работал, и сыграл на
рояле несколько фрагментов по рукописи. Его
мягкие руки делали музыку такой же мужественной,
как и его лицо, такой же проникновенной, как его
глаза, и такой же изысканной, как весь его хрупкий
облик. Мы позанимались, а потом за завтраком
согласились на том, что на самом деле это не было
репетицией: мы просто играли, и когда что-нибудь
повторяли, то, скорее, чтобы вновь ощутить
удовольствие от исполнения. Во второй половине
дня мы прошли всю программу - ми-минорную сонату
Брамса, до-мажорную Бетховена и ре-мажорную сюиту
Баха, сонату Дебюсси и рапсодию Бартока. Было
чудесно играть и общаться с ним. Меня огорчала
только мысль, что надо снова мчаться в
Скандинавию и Италию для выполнения других
концертных ангажементов, и так будет до тех пор,
пока я не отплыву в США.
Ждал я этого путешествия не только потому,
что нуждался в отдыхе: оно давало мне возможность
позаниматься. Но случилось так, что простуда и
лихорадка в сочетании с морской болезнью держали
меняв постели вместе с рукописью концерта
Кастельнуово-Тедеско в течение всего долгого
переезда через океан.
В тот момент, когда я, еще слабый после
болезни, вошел в номер нью-йоркского отеля,
раздался телефонный звонок маэстро Тосканини.
- Чем вы занимались все это время? - спросил
он нетерпеливо. - Ваш пароход пришвартовался уже
несколько часов назад. Поторопитесь, я жду вас.
И вскоре я встретился с ним в отеле
“Астор”, где он жил. Розовощекий Тосканини
заставил меня сразу же вынуть из футляра
виолончель и начать репетировать. С большим
оживлением говорил он о глупости дирижеров и
солистов, об их привычке все играть в неверных
темпах. Это был его конек, и я не ждал скорого
конца. Тосканини подвигался ко мне все ближе,
пока его лицо чуть не коснулось моего. Он
внимательно уставился на меня близорукими
глазами, точно я был ужасной опечаткой в
партитуре. Подкрутив усы, он покачал головой и
заметил: “Плохо, очень плохо. Опять геморрой? Вы
не пробовали то лекарство, которое я давал вам в
Милане? Пуччини оно помогло: у вас зеленое лицо”,
- заключил он внушительно.
Маэстро сел за рояль, и мы начали концерт.
Заглянув в его партитуру, я увидел, что партия
виолончели соло была добросовестно испещрена
карандашными указаниями аппликатуры и штрихов.
Кроме меня, ни один виолончелист еще не видел
этого произведения. Удивленный, я спросил, кто
делал пометки.
- Я, - ответил маэстро.
- Как так?
- Разве вы забыли, что я виолончелист?
-сказал он, улыбаясь.-Аппликатуру и штрихи надо
слышать, и я хотел бы знать, совпадают ли ваши с
моими.
Маэстро ударил по клавишам в подлинно
капельмейстерской манере. Он говорил, пел, меня
увлекли его непосредственность и темперамент. В
конце нашего долгого и оживленного общения я
чудесно остановил свои силы и вернулся в отель в
самом бодром состоянии духа.
Там я нашел телеграмму от Кусевицкого:
“Это вопрос жизни и смерти. Вы дадите со мной в
Бостоне мировую премьеру “Лирического
концерта” Березовского. Вся договоренность об
исполнении, которое стоится через две недели,
будет подтверждена вашим импресарио”.
Я знал Николая Березовского по Москве, с
юных лет знал Кусевицкого, но не знал концерта.
Прежде чем я успел вызвать Бостон и отказаться от
приглашения, зазвонил телефон и раздался голос
Кусевицкого:
- Скажите “да”, обещайте, я люблю вас,
скажите “да”.
Довольно долго я слушал. Его неотразимые
просьбы поколебали меня, и все мои доводы, что я
не успею выучить концерт в такой короткий срок,
не помогли.
- Вам понравится концерт. Это для вас
совсем не трудно. Пожалуйста, обещайте.
- А помните, что вы говорили об обещаниях? -
спросил я.
- Что именно?
- Вы сказали, что достаточно слабы, чтобы
давать обещания, но достаточно сильны, чтобы их
не сдерживать.
- Гриша, сейчас не время для шуток, -
упрекнул он меня. - Вы должны играть Березовского.
Вы будете играть.
После тягостного молчания я услышал свой
голос: “Буду”. Я доверял мнению Кусевицкого,
знал, что Березовский - прекрасный музыкант. Но не
переставал грызть себя за то, что согласился
играть произведение, которого никогда не видел.
Мне казалось, что такие импровизированные
приглашения могут быть сделаны в Токио или в
Южной Америке, но не в США. Однако там, где
пребывал Сергей Александрович Кусевицкий,
законов не существовало. Все, что препятствовало
выполнению его замыслов, сметалось с дороги и
становилось бессильным перед его сокрушающей
волей к созданию музыкальных монументов - еще при
его жизни они должны были быть доказательством и
свидетельством проявленных усилий. Его
энтузиазм и безошибочная интуиция прокладывали
путь молодежи, ободряли опытных мастеров,
нуждавшихся в этом, воспламеняли публику,
которая, в свою очередь, вдохновляла его к
дальнейшему творчеству. Он не только открывал
композиторов, он исполнял и публиковал их
произведения. Он создавал оркестры и
издательства, общества, школы, устраивал
фестивали; он сражался за американцев в Америке,
за французов во Франции, за русских в России. Его
видели в яростном и в нежном настроении, в порыве
энтузиазма, счастливым, в слезах, но никто не
видел его равнодушным. Все вокруг него казалось
возвышенным и значительным, каждый его день
превращался в праздник. Общение было для него
постоянной, жгучей потребностью. Каждое
исполнение- фактом исключительно важным. Даже
самая мысль о музыке приводила его в возбуждение
и нетерпение; это было ему свойственно до самых
последних дней. Друзья были для него самыми
избранными или приемными сыновьями и дочерьми,
каждый входивший в его дом вступал на землю
обетованную. С детства он стремился ко всему, что
выходило за рамки обычного, и сам вырос в нечто
исключительное. Он требовал только одного -
необычайного, и никто не смел дать ему меньше. Его
похвала вырастала в необъятность, и в ответ он
получал вдвойне. Слова вроде “прекрасное
исполнение” после концерта казались ему
оскорблением, если не были произнесены голосом,
прерывавшимся от волнения, или в котором должны
были угадываться слезы. И не было недостатка в
таких голосах, слезах и объятиях. Правда, иные
люди отклоняли его просьбы, отказывались от его
поддержки, но такие общались с ним только с
помощью посыльных, телеграмм или писем, потому
что никто не мог противостоять ему, встретившись
лицом к лицу. Дело было даже не столько в существе
того, что он просил, сколько в манере предъявлять
эти просьбы, которая делала отказ непреодолимо
трудным. Я никогда не мог этого сделать и в
общем-то никогда не хотел. Я любил его таким,
каков он был, а это не мало. Он обладал магическим
даром преображать даже пустяк в настоятельную
необходимость, потому что в вопросах искусства
для него пустяков не существовало. Он часто
подвергался нападкам и критике за свою
неосведомленность и чрезмерное тщеславие, но
часто можно было видеть, как те же критики
льстили ему в лицо. В высшей степени
чувствительный к любому виду похвал, он встречал
лесть с радостью, не омрачаемой ни малейшим
подозрением в неискренности говорящего.
Мои мысли были прерваны неожиданным
приходом Березовского. Юный, белокурый, он держал
в руках партитуру, улыбался. Был у него с собой и
чемоданчик.
- Вы уезжаете куда-нибудь, Ники? - спросил я,
обнимая его, - Нет, я у вас остановлюсь. Времени
мало, а мой концерт длинный. Мы не можем терять ни
минуты. Я был так рад услышать от Сергея
Александровича - когда вы еще были на пароходе, -
что вы согласились играть концерт! Я вынужден был
заканчивать партитуру в спешке.
Он устроился в моей комнате, а я
просмотрел ноты, начал играть. Наступила ночь, но
я все еще играл, и он записывал мои замечания;
Лежа в темноте, я не мог уснуть. Два концерта
звенели и кружились у меня в голове. “О, эти
гигантские близнецы, сколько мне придется
работать!”-стонал я в то время, как Ники уже
похрапывал. Сумрачные краски вступления к
концерту Березовского грозно скоплялись надо
мной, словно массы медленно движущихся туч.
Атмосфера сгущалась из-за оркестровки:
преобладали фаготы, бас-кларнеты и контрабасы.
Это я установил, трудолюбиво изучая страницы
партитуры. Но чем дальше, тем яснее и свободнее,
казалось, текла музыка. Что за странное чудовище -
музыкальная память: точный механизм без
механических приспособлений. Музыкальная наука
перенасыщена всевозможными методами. Но для
запоминания музыки пусть никто не рассчитывает
на помощь учебника.
Последующие четыре-пять дней я посвятил
маэстро Тосканини и трем репетициям концерта
Кастельнуово-Тедеско с Нью-Йоркским
филармоническим оркестром в “Карнеги-холле”.
Эти выступления оставили во мне удивительное
чувство легкости... Маэстро был великолепен. Оба
мы были довольны исполнением, и настроение
омрачалось только отсутствием композитора: он не
смог приехать и услышал свое сочинение годом
позже, когда я играл его во Флоренции. Ближайший
вечер я провел с Владимиром Горовицем и Яшей
Хейфем в его особняке на Парк-авеню. Это была
настоящая оргия камерной музыки - кроме нас,
никого не было. Мы играли до рассвета и сделали
лишь один перерыв, чтобы подкрепиться
прелестными маленькими куриными котлетами;
тонкий поэтичный Горовиц истребил их пятьдесят
шесть штук.
В полдень я отправился на Большой
центральный вокзал. Признаюсь, что почувствовал
облегчение, покидая Нью-Йорк и войдя в старый
пульмановский вагон. Было приятно освободиться
от Кастельнуво-Тедеско и на некоторое время
упрятать концерт Березовского в ручной
чемоданчик. Мне предстояло выполнить кое-какие
ангажементы - и еще до приезда в Бостон я выучил
“Лирический концерт” и надеялся услышать его в
сопровождении оркестра. Встреча с Кусевицким
была радостной, и я поселился в комнате, которую
они всегда приготовляли для меня в своем доме.
По дороге в “Симфони-холл” Кусевицкий
предупредил: “Мы начнем репетицию с концерта”.
Я поинтересовался, приехал ли Ники из
Нью-Йорка, как обещал, и не нашел его. Взамен там
оказалась его жена, Алиса. Я увидел ее в зале в тот
момент, когда вышел на эстраду.
Что это было за утро! Ошибки в партиях и в
партитуре казались непреодолимыми. Так же
обстояло с темпами и динамикой. Вполне
музыкальная Алиса с ее собственным экземпляром
партитуры не могла помочь нам. Бесконечная
репетиция напоминала барахтанье в мутной воде. В
конце концов я утратил всякую тактичность и
контроль над собой. Теперь неприятно вспоминать,
как я вел себя, вспоминать свою ярость, когда я
метался по эстраде, проклиная и оскорбляя всех
вокруг. Но больше всего мне стыдно, что я оскорбил
Сергея Александровича. Это было черное утро в
моей артистической жизни, н только благодаря
кротости и чуткости, присущим Кусевицкому, все
прошло бесследно - вместе с репетициями и
концертом.
Ники, подобно многим другим композиторам,
не упустил возможности присутствовать на
премьере и выйти на вызовы. Он сказал, что очень
доволен исполнением и приемом публики, ну а я
после удачного выступления уже был не в
состоянии ворчать на что-либо. Но после
повторения программы в Нью-Йорке я больше не
играл этого концерта.
Как правило, добиться повторения премьеры
в других городах очень сложно. Только и слышишь
от импресарио: “Это не сделает сбора” или “Наша
абонементная публика не переносит современной
музыки”. Дирижеры говорят, что новинки их
интересуют, но нет времени для дополнительных
репетиций. Или же в льстивой манере: “Вы должны
исполнить тот самый концерт, который мы с вами
так великолепно сыграли”.
Я испытываю влечение к хорошей новой
музыке, люблю пропагандировать ее, и меня мало
тревожит медленное распространение
современного искусства. Это старая история и
вековечная борьба, но борьба, к счастью, такая,
которая не мешает композиторам писать музыку.
Бетховен все равно написал бы “Missa solemnis”, даже
если бы знал, что понадобится около столетия,
прежде чем ее исполнят в Филадельфии. Да и Гайдн
не отказался бы от создания симфонии со скрипкой
и виолончелью obligato - ее первое исполнение
состоялось более чем сто лет спустя после его
кончины: ее сыграли в Крефельде с участием Карла
Флеша и моим. Конечно, было бы чудесно найти пути
и средства, чтобы ускорить признание выдающегося
искусства наших дней; надо надеяться, что в век
технического прогресса это будет достигнуто...
В первый период развития телевидения в
Лондоне я вызвался выступить в телестудии
бесплатно. Мне пришлось надеть яркий пиджак, как
и всем оркестрантам, и мы играли при таком
ослепительном н жарком освещении, что едва не
растаяли. Попытавшись найти в Лондоне хоть
кого-нибудь, кто смотрел бы передачу, таких не
обнаружили. Ничего удивительного: ведь тогда еще
не было телевизоров.
Столь же обескураживающим был и мой дебют
в кино, на сей раз в Париже. Жак Тибо и Вийермоз,
известный критик, рассказали мне о новой затее. В
короткометражных фильмах должны были
участвовать Корто, Тибо, Элизабет Шуман,
Браиловский и я с аккомпаниатором Бенвенути. Уже
в шесть часов утра Бенвенути и я сидели в
киностудии. После нескольких дней тяжкого труда
я уехал. В течение многих лет, где бы я ни
гастролировал, оказывалось, что фильм с моим
участием только что демонстрировался либо его
демонстрация была назначена на следующий день
после моего отъезда. Я так никогда и не видел
картины, а также до сих пор не получил ни гроша за
работу. Припоминаю, что подписал контракт, но с
кем? Где этот документ? Я спрашивал импресарио,
своих коллег, но никто, очевидно, не знал, кто был
инициатором и продюсером. Только пианист
Браиловский, посмеиваясь, сказал, что кое-какие
сведения у него есть, но требовал за них уплаты
вперед.
И все же я не преодолел антипатии к чтению
контрактов и снова продемонстрировал такую же
небрежность в связи с моим участием в одном
фильме, который снимался в Нью-Йорке.
Продюсер Борис Морроз (в течение
нескольких лет он утверждал, что был моим первым
учителем игры на виолончели) пригласил меня
сниматься в картине “Карнеги-холл”. Сценария я
не видел, но мне рассказали, что это подлинная
история знаменитого зала. Список исполнителей
картины был потрясающим: Лили Понс, Бруно
Вальтер, Яша Хейфец, Артур Рубинштейн, Жан Пирс,
Стоковский, Родзинскии, Фриц Рейнер, многие
другие, и среди них некто, изображавший
Чайковского, - как известно, великий композитор
дирижировал на открытии “Карнеги-холла”, и бог
знает кто еще. На мой вопрос, что играть, ответили:
“Все, что вздумаете”. Подписав контракт, я
повторил вопрос, и ответ прозвучал уже с
некоторым изменением: “Все, что вздумаете, лишь
бы не дольше двух минут”.
Я сыграл “Лебедя”. Конечно, нет ничего
необычного для виолончелиста в обществе этой
птицы. Ведь все в порядке: прекрасная музыка.
благородная птица, так же, как и легенда о ее
смерти: но при некотором усилии здесь все легко
превратить в пародию.
В “Карнеги-холле” я записал эту пьесу в
сопровождении арфы. Признав звучание
удовлетворительным, на следующий день пришел
сниматься. К моему изумлению, вместо арфиста, с
которым записывался, я увидел себя в центре
полудюжины дам с арфами. Все они были похожи друг
на друга, в одинаковых платьях, с одинаковыми
цветами и выражениями лиц.
- Они умеют играть на арфе? - спросил я
Морроза.
- Нет.
- Что же они здесь делают?
- Мне они нужны как фон.
Продюсер был очень занят и не имел времени
для разговоров. Он указывал мизансцены всей
нашей группе, отдавал распоряжения операторам и
торопил меня гримироваться. Непривычный к
театральной косметике, я недоверчиво
разглядывал свою наружность, подвергшуюся
сильным изменениям, с “чувственными” кругами
вокруг глаз и с лицом, покрытым слоем чего-то
похожего на розовую штукатурку. Я обернулся к
Моррозу. - Вы выглядите великолепно, - уверил он.
- Действительно, великолепно, - повторил он
н после того, как был исполнен мой номер.
Я дождался премьеры фильма и как буря
вылетел вон из кино после “Лебедя”. Вид
виолончелиста, засунутого в букет арфисток, был
устрашающим. Но мои посмертные вопли не имели
последствий, и этот плачевный опыт остался
воспоминанием, отчасти похожим на те
моментальные снимки - комические или печальные, -
какие можно найти в старом семейном альбоме.
Люди любят путешествовать и завидуют
музыкантам, которым удается повидать свет. В
общем, я готов присоединиться к восхвалению
нашей планеты, но избегаю рассказывать, что
означает путешествовать с виолончелью.
Возить с собой флейту, гобой, кларнет или
скрипку не составляет никакой проблемы.
Перевозка рояля, арфы, литавр, контрабаса или
клавесина - забота транспорта и грузчика. Это
всем известно. Только с виолончелью дело обстоит
совсем по-другому. Из-за ее формы и громоздких
размеров она всегда является нежеланной на всем,
что движется. Виолончелисты, гордое племя, не
считают свой инструмент настолько тяжелым или
неуклюжим, чтобы его нельзя было брать с собой
повсюду: они не могут понять, почему транспортное
начальство так неразумно.
Возьмите моего “Страдивари”: все, за
исключением проводников железной дороги
(большей частью в Италии и в Англии) и служащих
авиалиний, считают его полным совершенством по
размерам и форме. А те утверждают, что он на
несколько дюймов превышает размер вещей, которые
пассажирам разрешается иметь при себе. У меня
были письма от президентов важнейших
авиакомпаний. Служащим рекомендовалось
проявлять особое внимание к нам обоим - к
“Страдивари” и ко мне. Но вполне понятно, что
добрым президентам (описывать творение
кремонского мастера было для них делом
непривычным) не удавалось произвести нужного
впечатления на своих сотрудников. Однажды
премиленькая стюардесса, которую я умолял
позволить мне взять виолончель в пассажирский
салон самолета, сказала: “Вы же не можете уложить
кита. в корзинку для макрели”.
Исключительная сложность протаскивания
виолончели в самолет вызывает у меня азарт.
Однажды в аэропорту я спрятал ее в телефонной
будке и, чтобы убить время, удивлял знакомых
бесчисленными телефонными звонками. Как только
было объявлено отправление, я прошел через
контроль, небрежно неся виолончель под мышкой,
как газету. Обычно это сходит с рук. Если же нет,
то полезно заговорить на эсперанто, или просто
улыбнуться, или сделать что-нибудь еще - лишь бы
вызвать замешательство, пока не закроется дверь
самолета я не втиснусь на свое место с
виолончелью, надежно, хотя и неудобно зажатой
между колен.
Но бывали и черные дни, когда никто не
хотел прислушаться к голосу разума, когда все
были глухи к моим мольбам и казалось, что глаза
всех окружающих только и делают, что измеряют
человека высокого роста и его виолончель. Вот
инструмент уже у носильщика, я вижу его на груде
чемоданов, их катят к багажному отделению...
Описывать мои переживания - значит раздирать
сердца читателей. Я не состоянии этого сделать. К
тому же я не переношу слез. Правда, я жалею, что
вообще упомянул об этом.
Однажды в Чикаго, собираясь лететь в
Даллас, я заручился обещаниями авиакомпании, что
мне разрешат взять виолончель в салон самолета:
“Это абсолютно законно, мы счастливы быть вам
полезными”.
С легким сердцем я подошел к кассе
чикагского аэропорта. На этот раз мне нечего было
скрывать, некого убеждать, что-то предпринимать
или просить о благосклонности. Открыто неся
виолончель, я чувствовал себя настоящим
джентльменом, человеком, твердо знающим свои
права. “У вас должен быть оставлен билет для
меня”.- казал я.
“Конечно, мистер Пятигорский”,-ответил
кассир, произнося мое имя так, словно и сам был
родом из Екатеринослава. Пока он выписывал мне
билет, взвешивал чемодан, я осматривался вокруг с
видом путешественника, наслаждающегося жизнью.
“Вот они, - сказал он, протягивая два билета, -
этот для Григория Пятигорского, а этот для мисс
Виолончели Пятигорской - по сорок семь долларов
пятьдесят центов каждый”. Ошеломленный, я
уплатит.
Самолет был совершенно пуст. Виолончель
заняла соседнее со мной место. Стюардесса
прикрепила ее к сиденью ремнем и попросила меня
сделать то же самое. Она была очаровательна, а я
взбешен. Я потребовал два завтрака, стюардесса
дважды выполнила мое требование и уделила моей
виолончели не меньше внимания, чем любому
пассажиру. В ее беседе с другой стюардессой мне
послышались слова: “Сердитый котик!”. Может
быть, это относилось к кому-то другому, по мы все
же подружились в дороге, и я имел удовольствие
видеть ее па моем концерте в Далласе.
В Центральной Америке я летал па
“хозяйственных” самолетах. перевозивших свежие
овощи в задней части салона. Мне разрешили сидеть
там с виолончелью, и после нескольких подобных
рейсов я полюбил общество морковок, кабачков и
других продуктов природы, пока в один прекрасный
день не очутился в самолете, перегруженном
людьми и помидорами. Дорогие коллеги, пожалуйста,
прислушайтесь к моим предостережениям: никогда
не подвергайте вашу виолончель случайностям
путешествия на груде переспелых помидоров!
Моя виолончель путешествовала на мулах,
верблюдах, грузовиках, лодках, дрожках,
велосипедах, гондолах, джипах, на итальянской
подводной лодке, на метро, трамваях, санях,
джонках и на носилках в Амальфи. Однако наиболее
мучительным испытанием для нервов бывает тот
момент, когда я в концертном костюме должен нести
виолончель в руках через всю эстраду-каждый раз,
когда мне предстоит выступать.
(окончание следует)
|