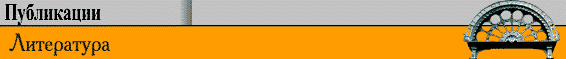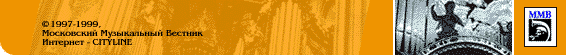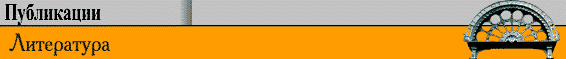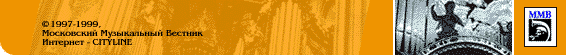|
Фрагмент двадцать шестой
Вернувшись в Нью-Йорк, в одно прекрасное
утро я встретился с прославленным оркестром и с
Менгельбергом. И “Карнеги-холл”, и дирижер, и
Нью-йоркский филармонический (за исключением
моих друзей и коллег Альфреда Валленштейна и
Михаила Пиастро) - все было ново для меня.
Репетиция началась без традиционного
представления солиста оркестру. Менгельберг,
грузный человек с огромной головой, прогудел
свои указания музыкантам, но они играли слишком
громко, чтобы услышать его голос. Взяв намного
более медленный темп, чем указано в партитуре, он
останавливался, начинал снова, опять
останавливался, а оркестр играл все громче и все
медленнее. Я ждал случая вступить в общение с
дирижером и наконец, воспользовавшись короткой
передышкой, вполголоса попросил его взять более
быстрый темп.
Ответил он громко: “Я учил этот концерт с
самим композитором, и темп, который я взял,
правильный”.
Его нудный голос на фоне звучания
оркестра, казалось, тянулся бесконечно. Тут я
встал, чтобы Менгельберг меня увидел н принужден
был выслушать, но он сделал мне знак сесть и велел
оркестру играть сначала. Он стучал палочкой, пел,
говорил, а темп становился все медленнее. Когда
после долгого tutti мне надлежало вступить, я
оказался в затруднительном положении и в знак
протеста стал играть гораздо быстрее, чем
когда-либо. Он остановился: - вы играете слишком
быстро. - Нет, это у вас слишком медленно! - Надо
играть так, как я дирижирую.
И я забастовал. Оркестр начал
аплодировать. Чувствовал я себя ужасно. Неведомо
откуда появился импресарио Джадсон. “Не похожее,
что мы сможем договориться”, - сказал я. Джадсон
совершенно невозмутимо объяснил, что это
последний сезон Менгельберга с филармоническим
оркестром и что жизнь у него нелегкая. Улыбаясь,
добавил, что музыкальную информацию Менгельберг
получает почти непосредственно от
праправнучатого племянника Бетховена или
внучатой тетки правнука Баха. Видите ли, он
доказал, что в то время как другие пользуются
печатными партитурами, он, знакомый лично с
Шуманом, Брамсом, Вагнером, Дворжаком и всеми
остальными, обладает достаточно весомым
авторитетом, чтобы опираться на него.
Не знаю, что сказал Джадсон Менгельбергу, но
решено было пробовать еще раз. И вдруг я увидел на
эстраде совсем нового человека,
предупредительного, доброжелательного и... в то
же время превосходного дирижера. Вечером и на
следующий день концерты прошли отлично. Но за
несколько минут до начала третьего концерта
Джадсон объявил, что Менгельберг заболел и его
заменит Ганс Ланге, второй концертмейстер
оркестра.
- Без репетиции?!
- Не беспокойтесь, - сказал доверительно
Джадсон. И этот черт был самым лучшим из трех.
(В Голландии я еще раз встретился с
Менгельбергом. Мы играли с оркестром
“Консертгебау” в Амстердаме, Гааге, Гарлеме в
полнейшем согласии и шутили, вспоминая наше
плохое настроение в Нью-Иорке).
“От берега до берега” - в каждом большом
американском оркестре играли русские музыканты.
Обычно это были струнники; французы преобладали
в группе деревянных духовых, а в группе медных -
немцы. Русская эмоциональность, французское
изящество, немецкая фундаментальность
сочетались повсюду с национальными
особенностями различных по школе и музыкальной
культуре уроженцев других стран. Все это делало
американские оркестры уникальными по качеству.
Играя с ними, я играл для них, и степень моей
удовлетворенности исполнением зависела от их
реакции. На репетициях я иногда поворачивался
спиной к пустому залу и смотрел на оркестр. Мне
хотелось видеть, с кем я “разговариваю”, и,
думается, подобное “взаимосозерцание” ускоряло
наше личное и музыкальное знакомство. Эта
процедура не всегда была безопасной. Иной раз мой
взгляд ловил выражение отчаянной скуки на
чьем-нибудь лице, и тогда я предпочитал смотреть
в зал. Знаю, что во многих оркестрах может
оказаться по крайней мере один участник,
которому музыка “противопоказана”. Неприятно
было обнаруживать его.
В Лос-Анджелесском филармоническом
оркестре как будто не было таких артистов.
Дирижировал Артур Родзинский, и, хотя репетиция
проходила гладко и деловито, я был в полном
замешательстве, не зная, что же могло вызвать
такую странную реакцию: топая ногами, крича и
аплодируя, оркестр не хотел уйти с эстрады.
Окруженный музыкантами, я играл для них в
антракте и еще долго после того, как мы кончили
репетировать. Не успев дойти до отеля, я, к своему
удивлению, нашел на первой странице газеты отчет
об этой репетиции.
Концерт, состоявшийся всего лишь через
несколько часов, стал кульминацией необычного
дня. Любопытное было зрелище, когда после
“Дон-Кихота” Р. Штрауса и концерта Дворжака
некий Кларк, богатый меценат, видимо
субсидировавший оркестр в Лос-Анджелесе, принес
мою виолончель на эстраду, настаивая, чтобы я
согласился играть “на бис”. Одна за другой
зазвучали части из разных сюит Баха, а последний
номер программы оркестр так и не исполнил.
- Вы везде имеете такой успех? - спросил
Родзинский.
- И один раз это довольно хлопотливо!
Родзинского я знал еще с варшавских
времен, рад был снова увидеть его и убедиться, что
он вырос в интересного дирижера. В Голливуде я
побывал на киностудиях и встретился с
несколькими звездами экрана. Наблюдая Кларка
Гебля в каком-то яростном эпизоде, я спросил, в
чем там дело. Этого он не знал. Кларк сказал, что в
предшествующей съемке он целовал какую-то
женщину, а на следующий день должен был поджечь
корабль, но только когда фильм смонтировали,
узнал, зачем делал это.
Джоан Кроуфорд произвела на меня такое
впечатление, что я покинул студию очень поздно и
едва не опоздал на поезд в Сан-Франциско.
Очарованный Калифорнией, сожалея о краткости
пребывания там, я снова отправился на Восток,
чтобы выполнить другие ангажементы.
Концерты следовали один за другим. Часто,
приехав в какой-нибудь город, я расставался с ним,
так и не увидев, каков он при дневном свете. Жалею,
что этого не случилось в одном из
университетских городков (вероятно, Мэдисон в
штате Висконсин), где я остался ночевать и,
привлеченный великолепным видом озера, отложил
отъезд на вторую половину дня. Озеро
основательно замерзло, и кто-то из студентов
пригласил меня покататься на санях с парусом. Мой
аккомпаниатор Павловский, с подозрением
посмотрев на них, сказал, что слишком холодно,
ветрено и вместо того, чтобы иметь дело с этим
сумасшедшим приспособлением, он предпочитает
вторично позавтракать со студентками. Я никогда
раньше даже не слышал о таких вещах и,
заинтересованный, с нетерпением ждал
возможности узнать, как эти сани двигаются.
В тот момент, когда я влез на них, сильный
толчок швырнул меня плашмя. Я во что-то вцепился
обеими руками, в то время как сани, дрогнув,
повернулись вокруг оси и с головокружительной
быстротой устремились одновременно как бы
вперед и в стороны. Ветер свистел в ушах, словно
ножом резал лицо и все мое тело. Невероятная
скорость, с которой мы мчались, превратилась в
сумасшедшую скачку гигантскими прыжками. Когда я
закрывал глаза, мне казалось, будто я лечу в
воздухе на спине какой-то ведьмы навстречу своей
гибели.
К счастью, любому кошмару приходит конец.
Закончилось и это путешествие. Измученный, я не
мог даже пожаловаться на продолжительность
пытки и не запомнил, что сказал в этот момент мой
водитель и как он выглядел. Пересчитав
полученные повреждения, я покинул город, хромая,
со множеством синяков, с распухшей шеей, нос мой
резко изменил свой цвет.
Концерты состоялись в нескольких городах,
и пока я добрался до Чикаго, все видимые следы от
посещения Мэдисона исчезли. Я предвкушал встречу
с Фредериком Стоком и выступления под его
управлением с Чикагским симфоническим
оркестром. Мы сразу же стали друзьями. Подобные
отношения между двумя музыкантами очень едко
устанавливаются в одну минуту. Чаще всего они
возникают на основе давней дружбы, питаемой
годами одинакового отношения к музыке. Наша
близость, дружеская и артистическая, оставалась
неизменной на протяжении многих лет, в течение
которых мы не пропускали ни одного сезона, чтобы
не поиграть вместе в Чикаго. Кроме хорошо
известных произведений, мы исполнили его
собственный концерт и концерт Хиндемита, новинку
для Чикаго.
Этот город, с его недоброй репутацией гнезда
гангстеров, стал для меня средоточием нежной
дружбы и сердечных чувств. Дом известного
ларинголога Мориса Коттля, скрипача-любителя, и
его жены, замечательной пианистки Гиты Градовой,
был пристанищем для всех странствующих
музыкантов, бывавших в Чикаго или совершавших
долгое путешествие только ради того, чтобы
провести вечер у Котлей. Здесь можно было
встретить Тосканини, Эльмана, Артура
Рубинштейна, Прокофьева, Хейфеца, Горовица и
всегда найти достаточно партнеров для
подлинного праздника камерной музыки. А если
надо было вылечить простуду или сделать
какую-нибудь операцию, доктор Коттль всегда это
делал великолепно и, главное, бесплатно.
В Буффало я встретился с одним человеком,
который когда-то слушал меня в Варшаве.
“Выиграли концерт си-бемоль мажор Боккерини”, -
сказал он.
Ничего не было приятного в упоминании
этого произведения, переложенного,
инструментованного и гармонизованного не
Боккерини. а другими музыкантами. Многие
виолончелисты - и я в том числе - украшали этот
концерт собственными каденциями, иногда более
длинными, чем отдельные части сочинения. Успех,
которым оно пользовалось у слушателей, был
просто невероятен, если учесть, какое огромное
количество опусов Боккерини осталось
неизвестным. А ведь подлинность концерта, чаще
всего исполнявшегося и записывавшегося на
граммофонные пластинки, была сомнительной. Зная
о том и не имея возможности найти оригинальную
партитуру, я постепенно перестал играть это
произведение и никогда не соглашался записать
его...
Затем я приехал в Детройт. Приятно было
снова увидеть Осина Габриловича и встретиться с
его женой и дочерью Ниной. Сюрпризом для меня
явилось присутствие Александра Константиновича
Глазунова: он дирижировал своей симфонией в той
программе, где я выступал как солист под
управлением Габриловича. Маститый Глазунов с
трогательной симпатией относился к окружавшим
его людям, и здесь это было еще более заметно,
нежели в России. Флегматичный и несобранный по
характеру, он не импонировал как дирижер.
Несмотря на это, русские оркестры, уважая и любя
его, не жалели сил, когда он дирижировал. И сейчас,
в Детройте, музыканты делали для него все, что
могли, даже больше, чем он способен был от них
требовать.
Втроем, довольные концертом, мы
засиделись далеко за полночь. Глазунов устало
поддерживал беседу короткими репликами: “Ваш
оркестр превосходен. Деревянные духовые и
струнники - хорошие музыканты... Да, я люблю Париж.
Да, французы дружелюбны, воспитаны...”.
Слушая, я уносился мыслями в далекое
прошлое, когда в возрасте десяти или одиннадцати
лет играл в ресторане “Метрополь”, в Москве. Там
я впервые увидел Глазунова, он обедал, а я сыграл
его “Песню менестреля” и “Испанскую серенаду”.
Пригласив меня за свои столик, он беседовал со
мной по-отцовски. Сейчас, глядя на него, мне так
хотелось что-то сделать для Александра
Константиновича, что-то ободряющее, нежное, как
делают это для беспомощного ребенка.
В последний раз я увидел Глазунова через
несколько лет в Париже...
(продолжение следует)
|