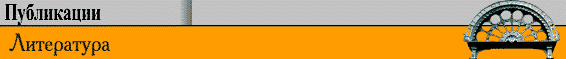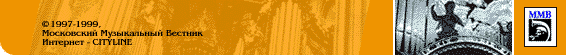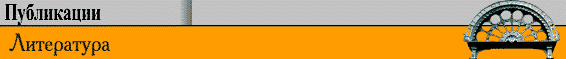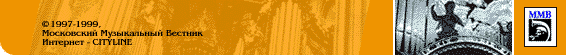|
Фрагмент двадцать седьмой
Наконец, объездив всю страну, я вернулся
в Нью-Йорк для сольного концерта. Снова
встретившись с Мильштейном и Горовицем, мы
обменялись впечатлениями и узнали от Меровича о
планах на будущее.
“Вы приедете сюда в следующем сезоне, и
еще через год, и еще много раз. Мы устроим
собственные абонементные циклы во всех мировых
музыкальных центрах. Жизнь виртуоза должна быть
такой же долгой и плодотворной, как и
деятельность филармонических обществ - они
переживают войны, депрессии и в постоянном
служении музыке создают традиции. Мы станем
пропагандировать лучшие произведения разных
жанров и приглашать других виртуозов, по нашему
выбору, быть в дальнейшем нашими
последователями”,-проповедовал он.
- Быть может, мы все же позавтракаем? -
соблазнял нас Натан. Вечером мы с Горовицем и
Мильштейном отправились к Рахманиновым. Натан
взял с собой скрипку, я - виолончель. У Володи
(Рахманинов называл его Горовец) были ноты
рахманиновского трио. Мы репетировали это
произведение для концерта в Нью-Йорке и хотели
сыграть его автору. Горовиц, заранее приготовив
множество извинений, робко попросил Сергея
Васильевича исполнить фортепианную партию.
Натан поддержал его, заметив, что критиков здесь
нет и это не связано ни с каким риском. Рахманинов
засмеялся, но просьбу решительно отклонил. Мы
начали играть. Исполнение, кажется, было хорошим,
и немногие слушатели - Рахманинов, его жена обе
дочери - реагировали более чем одобрительно...
- Сергей Васильевич, - начал Мильштейн, - почему
вы не сочините что-нибудь для скрипки?
- Зачем же, когда есть виолончель, - ответил он.
Дня через два я посетил Леопольда Годовского.
Этот любезный пожилой человек уже не выступал в
концертах: он поддерживал свою репутацию
остроумного человека, охотно принимал друзей,
играл им свои блистательные широко известные
транскрипции. Агрессивность ловких пальцев,
словно не удовлетворяясь имевшимися трудностями
жадно и со скоростью света охватывала, казалось,
большее количество клавиш, чем это было
фактически возможно. Играл он едва различимо для
слуха, но зрелище было ослепительное. Его зять
Давид Сапертон тоже играл какие-то транскрипции
Годовского, и, к моему изумлению, еще быстрее и
еще тише. Вместе с Годовским я сыгралл его “Larghetto
lamentoso” - певучую пьесу, которая мне всегда шилась.
Ее медленные темпы были облегчением.
... С палубы парохода я долго следил за тем,
как исчезал Нью-Йорк.
Войдя в каюту и раскрыв свой ручной
чемоданчик, набитый деловыми бумагами, я
разложил на постели накопившиеся за долгое время
письма, счета и программы. Что же было в счетах?
Двадцать процентов комиссионных концертной
фирме “Колумбия”; десять процентов - фирме
“Вольф и 'Закс”; за вычетом этой суммы
пятнадцать процентов - на мое личное
представительство. Счета за рекламные листовки,
за фото, афиши, альбомы с рецензиями (настоящая
литературная драгоценность!), газетные вырезки,
плакаты для витрин, анонсы и т. д. Счет расходов по
сольному концерту в Нью-Йорке занимал две
страницы. По иронии судьбы, к нему были приколоты
пламенные рецензии. Когда я читал их впервые, они
казались свежими и приятными, но теперь
выдохлись, и я снова перешел к счетам.
Железнодорожные билеты, музыкальные журналы,
переезд через океан, гонорар аккомпаниаторам... Я
бросил быстрый взгляд на другую кучу
неоплаченных и оплаченных счетов и с радостной
мыслью о том, что бедная Европа вскоре опять
наполнит мой кошелек, уложил все обратно в
чемоданчик и вышел прогуляться по палубе вместе
с Натаном.
У меня не было ни фотоаппарата, ни
ассортимента шляп и костюмов, ни карт, ни
путеводителей, ни прочей экипировки, по которым
можно узнать братьев-туристов. Ограничиваясь
самым необходимым, я путешествовал с одним
чемоданом, ручным чемоданчиком и, конечно,
виолончелью. По явному контрасту с другими
пассажирами, во время переезда через океан носил
один и тот же костюм. Бизнесмены укладывали,
распаковывали свои вещи, делали заказы, о чем-то
условливались и совещались со стюардами и
метрдотелями, высматривали партнеров для бриджа.
Они посылали телеграммы и цветы, писали открытки
и письма и, кроме этого, без конца переодевались,
наводили на себя красоту до и после каждого
события пароходной жизни. У меня тоже были
хлопоты, но иные: из-за влажного морского воздуха
я без конца укутывал виолончель в шелковые и
фланелевые чехлы, ухаживал за струнами и грифом,
специальным составом полировал корпус
инструмента, чтобы защитить его от простуды.
Немного позанимавшись, снова укладывал
виолончель в футляр, заворачивал в шерстяное
одеяло, накрывал подушками. А стюарду оставлял
записку, чтобы он не трогал сооружение.
Во время этого путешествия, как и в
дальнейшем, Натан Мильштейн днем и ночью был на
палубе. Он наблюдал за переездом, стоя на страже,
готовый, если понадобится, спасать свою жизнь.
Все средства передвижения он считал ненадежными,
однако забавно, что тот же осторожный Натан
проявил абсолютную беспечность в роли пассажира,
когда я дебютировал в роли шофера.
Погода стояла прекрасная, но я вынужден
был пожертвовать бриджем с Натаном и даже
прогулкой по палубе с обаятельной итальянкой
ради утомительного общения с сочинениями
Шёнберга и Шнабеля, которые я изучал у себя в
каюте. Шёнберг вручил мне свой концерт,
написанный на темы Монна, спросив, не сыграю ли я
его. Ничто не могло мне быть более приятным. Я
начал работать, но, в отличие от других, более
смелых произведений Шёиберга, этот концерт
приводил меня в недоумение. Я снова и снова
проигрывал его, надеясь, что, быть может, после
возвращения в Европу смогу лучше объяснить себе,
что заставило такого мастера, как Шёнберг,
обратиться Монну.
Так же обстояло дело и с сонатой для
виолончели соло Шнабеля. И ее я получил от автора.
Шнабель советовался со мной, когда писал это
произведение, однако его причудливая музыка
увлекала меня только в сопровождении устного
obligate Шнабеля. Он великолепно говорил о своих
музыкальных идеях. Но здесь, среди океана, без
устрашающей шнабелевской риторики, жестов и
показов за роялем все было гораздо менее
убедительно. Я не жалел сил, но боялся, то и
Шёнберг и Шнабель, глубоко восхищавшие меня
музыканты и друзья, были бы разочарованы моим
уклончивым отношением или, скорее, недостатком
передовых взглядов - временным, как я надеялся.
К моей радости, турне привело меня в
Италию: судя по звучанию виолончели, и она была
счастлива, что снова вернулась в родную страну. Я
любил Италию, ее народ, ее искусство, не хотел
ничего упустить, и самые скромные гонорары не
были препятствием, чтобы уговорить антрепренера
дать мне возможность поиграть в самых маленьких
городах. Винсеито Витали, пылкий молодой
аккомпаниатор из Неаполя, заботился еще меньше о
деньгах. Почти бедняк, он желал платить сам зa все
наши трапезы, и только силой можно было заставить
его принять тяжким трудом заработанный гонорар.
Он снял от радости, когда я хвалил его игру, и
готов был плакать от малейшего критического
замечания.
После нескольких концертов турне
закончилось. Еще согретый итальянским солнцем, я
обнаружил себя шагающим по улицам Лондона сквозь
дождь и туман по направлению к дому, где
находилась граммофонная фирма. Студию заполнили
музыканты Лондонского филармонического
оркестра. Они шумно настраивали инструменты,
беседовали и жестикулировали. В Италии подобное
оживление - дело обычное н может быть вызвано
любым пустяком. Здесь же люди, в совершенстве
владеющие собой, могут позволить себе подобное
возбужденное состояние только в силу очень
важных причин...
Дирижер Джон Барбиролли сказал мне, что в нашем
распоряжении всего лишь сорок минут - и для
репетиции, и для записи концерта Шумана.
Звукоинженеры фирмы “His Master's voice” заявили, что
перерывов в ходе записи не будет и что концерт
должен быть записан от начала до конца без
остановок. Барбиролли, сам в прошлом
виолончелист, хорошо знал концерт и усомнился,
удастся ли это сделать. “В самом деле, это было бы
чудом, - заметил звукоинженер. - Нам предстоит
первый опыт записи концерта целиком, вместо того
чтобы делать перерыв после каждой
четырехминутной стороны”.
- Как же вы думаете избежать остановок? - спросил
я.
- Как только одна сторона будет закончена,
следующую включит другой аппарат.
У нас почти не было времени на то, чтобы
обсуждать темпы пли еще что-нибудь, да и на
репетицию времени не оставалось. Барбиролли
объяснил оркестру необычную ситуацию и почти
сразу же загорелась красная лампочка - сигнал.
Наступило напряженное, настороженное молчание.
Запись началась. Что это было? Обоюдная симпатия,
очарование музыки или удача? Я не знаю. Наверное,
и никто не понимал, как в невероятной
сосредоточенности, часть за частью без единой
заминки концерт достиг завершающего аккорда. В
то же мгновенье раздался голос первого гобоиста
Леона Гуссенса “браво!”, и красный сигнал потух.
Это “браво!” осталось на пластинке.
- Я очень сожалею, - сказал Гуссенс.
- Ничего,-ответил я. - Это самое искреннее
“браво”, которое я слышал в своей жизни.
- Мы не сможем соскоблить голос, - заметил
звукоинженер. - Пожалуйста, сыграйте последнюю
страницу еще раз.
Зато теперь, когда мы играли, раздался
стук от падения фагота, и каждое последующее
повторение прерывалось чиханьем, кашлем или
киксом моей виолончели, пока паше время не
истекло. Граммофонной фирме удалось лишь отчасти
соскоблить с пластинки голос Гуссенса, оставив
мне на радость его “браво” до наших дней.
Общеизвестно, что многие профессии
накладывают свой отпечаток не только на характер
человека, но и на его внешность.
Например, почти невозможно не узнать при
встрече виолончелиста. На нем всегда можно
различить, как некие шрамы, следы ностальгии,
оставленные долгими и часто безуспешными
сражениями с причудами твоего инструмента.
Меланхолическое настроение особенно заметно,
когда виолончелисту надо сыграть что-либо
оживленное, веселoe, но, между прочим, вылившееся в
пассажи, написанные в таких неудобных позициях,
словно они специально рассчитаны, чтобы
заставить музыку звучать грустно до слез.
Однако в своей музыкальной жизни
виолончелист не одинок и не может составить себе
компанию по собственному выбору. В отличие от
пианиста или гитариста, он не может обойтись
своими силами, его редко увидишь на эстраде в
одиночестве. Рядом с ним всегда шествует какой-то
человек с нотами в руках, и весь его вид как будто
говорит: “Это не мой концерт, ко мне - никаких
претензий”. На нем заметен отблеск твердой
решимости быть рядом с виртуозом и в радости и в
горе до самого конца. Этот человек-аккомпаниатор.
Его положение в музыкальном мире своеобразно, и
несмотря на то, что существование солиста без
него немыслимо, огромное значение пианиста -
аккомпаниатора редко получает достойное
признание.
Хорошие концертные программы для
смычковых инструментов включают
камерно-ансамблевую музыку с фортепианной
партией одинаковой значимости-равенство,
которым аккомпаниатору не разрешено
воспользоваться. Крышка его рояля закрыта, он
должен быть сдержанным. Он играет по нотам и за
меньшее вознаграждение играет их гораздо больше,
чем солист. На афишах его имя не выделяется, о нем
едва упоминают в рецензиях. Надо надеяться, что
рано или поздно на эстраде или за ее пределами (а
лучше и там и здесь!) он взбунтуется против своего
знаменитого работодателя. Однако у опытных
аккомпаниаторов с течением времени развивается
чувство самосохранения, и при исполнении своих
обязанностей они невозмутимы, словно факиры на
ложе из гвоздей.
Уже коснувшись тем, связанных с моими
партнерами-пианистами, трудно свернуть в
сторону. Если я упомяну о Ральфе Берковице, то это
все равно что вспомнить о более чем пятнадцати
годах моей деятельности. Многие милые сердцу
воспоминания связаны с именами Айвора Ньютона,
Павловского. Ван дер Пас - его я только на эстраде
видел без сигары во рту; Отто Герц из Будапешта -
кроме аккомпанемента он занимался еще и черной
магией; Арпад Саидор, Эмануэль Бей и другие - все
они как живые проходят перед моими глазами.
(продолжение следует)
|